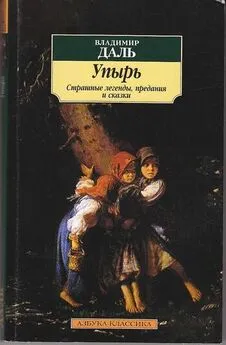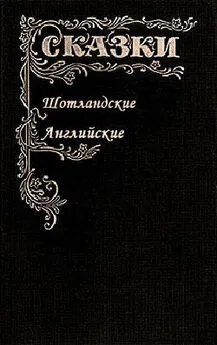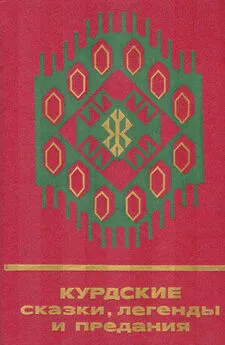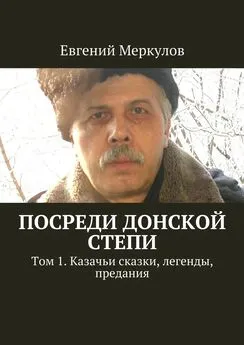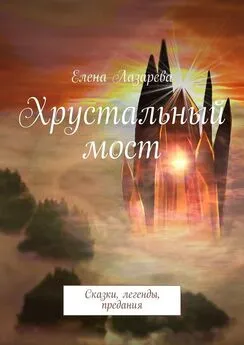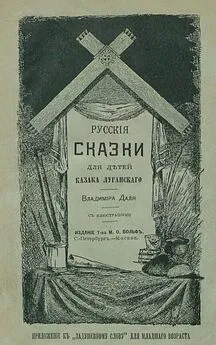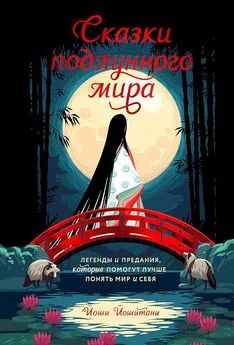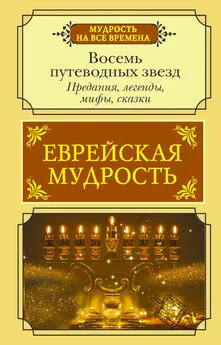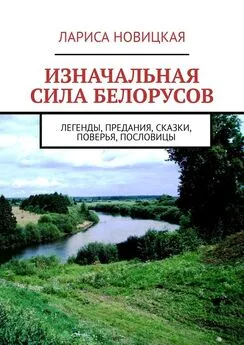Владимир Даль - Упырь: Страшные легенды, предания и сказки
- Название:Упырь: Страшные легенды, предания и сказки
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательская группа «Азбука-классика»
- Год:2010
- Город:СПб.
- ISBN:978-5-9985-0237-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Даль - Упырь: Страшные легенды, предания и сказки краткое содержание
Современные читатели знают Владимира Ивановича Даля прежде всего как автора четырехтомного «Толкового словаря живого великорусского языка», но крайне мало знакомы с его творческим наследием. Интерес Даля к фольклору — преданиям, поверьям и сказкам нашел отражение во многих его произведениях, о которых Н. В. Гоголь отзывался с восхищением: «По мне, он значительней всех повествователей-изобретателей. Может быть, я сужу здесь пристрастно, потому что писатель этот более других угодил личности моего собственного вкуса». В настоящий сборник вошли произведения Даля, объединенные общей темой: столкновением человека с нечистой силой. Иногда «тайна» получает бытовое объяснение, а иногда читателю должно стать действительно страшно: здесь и колдуны, и русалки, и оборотни, и убийства, и продажа души черту, и кара за безбожное поведение.
Упырь: Страшные легенды, предания и сказки - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Часа через три гонец от султана Галикеева прискакал, соглашаясь на предложения о размене пленных, но просил прибавить несколько часов срока, потому что лошади были загнаны далеко и послано за ними вдогонку. Размен состоялся наполовину: коней пригнали, за раненых и не отысканных лошадей киргизы дали своих, но Кизылбашева, которого, конечно, не пожалели бы при таких обстоятельствах, выдать не могли, несмотря ни на какие настояния Пахолкина, уверяя, что он скрылся. Поэтому сотник счел себя вправе не выдавать и пленных, утверждая, что договор со стороны киргизов не исполнен; тогда эти вздумали требовать обратно лошадей; завязался спор, а наконец и драка, которая кончилась весьма невыгодно для киргизов: казаки жестоко наказали их, напав еще вторично на приблизившуюся шайку, и гнали ее, побивая, до самой ночи. Таким образом, отряд Пахолкина воротился благополучно в Сарайчик, с песнями и победными кликами, не потеряв ни одного человека, а сделал свое дело: наказав хищников порядком и отогнав довольно скота. Весть об измене Кизылбашева, о котором не было ни слуху ни духу, разошлась вскоре по всему войску, и едва ли на чью-нибудь голову было когда-либо произнесено столько проклятий, сколько досталось от мала и велика на долю позорной памяти этого несчастного полуперсиянина. Прошло несколько лет, и о Кизылбашеве не было речи; все сведения из степи подтвердили первоначальное известие, что он пропал без вести.
Однажды, в темную и бурную осеннюю ночь, повторилось почти то же, что было описано нами в начале этого рассказа: шайка киргизов прорвалась или прокралась внутрь линии неподалеку Кожехарово; пущенные по линии маяки подняли на ноги все население, и собранный отряд пошел вслед за грабителями. Он к вечеру остановился, прислонившись тылом к озеру, где было хорошее пастбище, выставил впереди цепь и послал разъезд до известного урочища, где был крутой обширный яр, чтоб удостовериться, нет ли там засады.
Разъезд подъехал к урочищу уже в сумерки и пустился на несколько верст для осмотра вдоль яра. Все было мертво и пусто, нигде и следов аула или стоявшей шайки не найдено. Вдруг (я говорю по словам разъездных казаков) конный казак выезжает вплоть перед ними из оврага: кивнув головой, он берется за шапку, будто здоровается, и робко объезжает вокруг разъезда. Явление это до того поразило казаков, что они стояли несколько минут как вкопанные и даже не окликали встречного и не подали голоса… Наконец урядник, узнав в казаке этом Кизылбашева, назвал его по имени и звал к себе, убеждая покаяться в грехах своих и добровольно явиться к начальству… Кизылбашев не отвечал сперва ничего, но, покружив, стал расспрашивать, что делается в войске: кто теперь атаман, дома ли такие-то казаки и прочее. Урядник повторил ему настояние свое, чтоб он ехал с ними, а когда тот, кивнув опять слегка головой, передвинул шапку в виде поклона и поворотил лошадь к оврагу, то урядник кинулся за ним и протянул уже руку, чтоб схватить, как вдруг его не стало. Урядник и разъездные казаки перекрестились, прочитали «Аминь, аминь, рассыпься», поискали еще несколько времени переметчика, но, не найдя ничего, воротились.
То же почти случилось на следующую весну, когда небольшой казачий отряд послан был на помощь султану-правителю по поводу баранты и угонов. И тут опять ночью нечаянно подъехал к отряду казак, будто из земли вырос; робко приближался, но все держался поодаль; и опять расспрашивал, что делается в войске. Все, кто знавал Кизылбашева, узнали его; казаки бросились и окружили было его, но он пропал опять на месте, будто провалился сквозь землю.
С этого времени уральским отрядам частенько случается видеть в степи полунощника; и полунощник этот не кто иной, как Кизылбашев. Много прошло лет, много десятков лет прошло с той несчастной ночи, когда безрассудная злобная месть воспламенила персидскую кровь этого несчастного и как он, посягнув на одно из самых страшных преступлений, продал свою душу, — и все еще привидение его шатается по обширной степи, ищет и не находит покоя и, встретив русский отряд, подъезжает к нему и расспрашивает о том, что делается на Руси и в родном уральском войске… Теперь уже привыкли к нему и знают его; казаки не пугаются более этого загадочного явления: как только увидят они издали ночью чужого казака на белой лошади, в чапане и шапке старинного обыка, с густой и черной круглой бородой, со смугло-желтым, болезненным цветом лица, с мутными непостоянными глазами, так и творят молитву и говорят друг другу: «Гляди, полунощник!»
БАШКИРСКАЯ РУСАЛКА
В горной области Урала живет полукочевой народ. Он просил у царя Иоанна Грозного защиты и подданства: с востока сибирские князья, а с юга монгольские, татарские орды утомили зажиточных скотоводцев непрестанными набегами. На севере, однако же, и северо-востоке сами они делали набеги и уводили себе оттуда, от племен чудских, жен. Откуда народ этот взялся — неизвестно; вера его ныне мусульманская, язык наречия турецкого или татарского, произношение более гортанное, монгольское; лица у мужчин — что-то среднее между лицом казанского татарина и заяицкого кайсака, у женщин — между кайсачкою и самоедкою; словом, здесь, кажется, видна смесь племен: татарского, монгольского и чудского. Народ этот называет сам себя «башкурт»; ученые наши тешились над этим словом, ломали и переводили его всячески: главный волк или вор, [25] Люблю я этих переводчиков, которые все знают и все толкуют: на здешнем наречии «курд» или «курт» никогда не означало вора. Тут нельзя не вспомнить длинного рассуждения, в котором один ученый наш старался доказать, что арал никак не может означать островитого моря или моря острова, потому что остров по-турецки ада , а не арал . Очень похвально знать по-турецки, но непохвально спорить положительно, опровергать и даже переиначивать то, что написали другие, если не знаешь вовсе того языка или наречия, к коему спорное слово относится. Кайсаки, хивинцы и туркмены вовсе не знают слова ада в значении острова; собственно, остров у них утрай , а берег, материк суша, остров — словом, земля, в противоположность воды, действительно называется арал . Поэтому арал-дингизы , или арал-дингиз , скорее может значить островное, береговое море, чем междуречье, как утверждает строгий наш законник, тем более что последнее толкование, по свойству не турецкого, а здешнего татарского языка, нельзя допустить вовсе.
главный пчеловод, отдельное племя или владение и проч. Сами башкиры говорят, что они происходят от ногаев, или ногайцев, отделившись от них по усобицам. Иные помнят, по преданию, какое-то родство с бурятами; в сказках и песнях их поминают родоначальником дивного Чингисхана, коего предок рожден девственницею от наития солнечного луча, а сам он, Чингисхан, вдовою Алангу, которую также посетил луч солнца и возвратился от нее серым волком с конскою гривою.
Интервал:
Закладка: