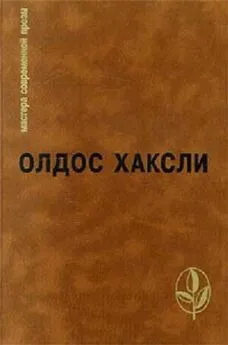Олдос Хаксли - О дивный новый мир. Слепец в Газе
- Название:О дивный новый мир. Слепец в Газе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-100531-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Олдос Хаксли - О дивный новый мир. Слепец в Газе краткое содержание
«Слепец в Газе» (1936) — роман, который многие критики называли и называют «главной книгой Олдоса Хаксли». Холодно, талантливо и безжалостно изложенная история интеллектуала в Англии 30-х годов прошлого века — трагедия непонимания, нелюбви, неосознанности душевных порывов и духовных прозрений…
О дивный новый мир. Слепец в Газе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
С прохладцей, неохотно, как показалось ему, обслуга выкатила вертоплан на крышу.
— Живей! — произнес Бернард раздраженно. Один из близнецов взглянул на него. Не скотская ли издевочка мелькнула в пустом взгляде этих серых глаз? — Живей! — крикнул Бернард с каким-то уже скрежетом в голосе. Влез в кабину и полетел на юг, к Темзе.
Институт технологии чувств помещался в шестидесятиэтажном здании на Флит-стрит. Цокольный и нижние этажи были отданы редакциям и типографиям трех крупнейших лондонских газет — здесь издавались «Ежечасные радиовести» для высших каст, бледно-зеленая «Гамма-газета», а также «Дельта-миррор», выходящая на бумаге цвета хаки и содержащая слова исключительно односложные. В средних двадцати двух этажах находились разнообразные отделы пропаганды: Телевизионной, Ощущальной, Синтетически-голосовой и Синтетически-музыкальной. Над ними помещались исследовательские лаборатории и защищенные от шума кабинеты, где занимались своим тонким делом звукосценаристы и творцы синтетической музыки. На долю института приходились верхние восемнадцать этажей.
Приземлившись на крыше здания, Бернард вышел из кабины.
— Позвоните мистеру Гельмгольцу Уотсону, — велел он дежурному гамма-плюсовику, — скажите ему, что мистер Бернард Маркс ожидает на крыше. — Бернард присел, закурил сигарету.
Звонок застал Гельмгольца Уотсона за рабочим столом.
— Передайте, что я сейчас подымусь, — сказал Гельмгольц и положил трубку. Дописав фразу, он обратился к своей секретарше тем же безлично-деловым тоном: — Будьте так добры прибрать мои бумаги, — и, без внимания оставив ее лучезарную улыбку, энергичным шагом направился к дверям.
Гельмгольц был атлетически сложен, грудь колесом, плечист, массивен, но в движениях быстр и пружинист. Мощную колонну шеи венчала великолепная голова. Темные волосы вились, крупные черты лица отличались выразительностью. Он был красив резкой мужской красотой — настоящий альфа-плюсовик «от темени до пневматических подошв», как говаривала восхищенно секретарша. По профессии он был лектор-преподаватель, работал на институтской кафедре творчества и прирабатывал как технолог-формировщик чувств: сочинял ощущальные киносценарии, сотрудничал в «Ежечасных радиовестях», с удивительной легкостью и ловкостью придумывал гипнопедические стишки и рекламные броские фразы.
«Способный малый, — отзывалось о нем начальство. — Быть может (и тут старшие качали головой, многозначительно понизив голос), немножко даже чересчур способный».
Да, немножко чересчур; правы старшие. Избыток умственных способностей обособил Гельмгольца и привел почти к тому же, к чему привел Бернарда телесный недостаток. Бернарда отгородила от коллег невзрачность, щуплость — и возникшее чувство обособленности (чувство умственно-избыточное, по всем нынешним меркам), в свою очередь, стало причиной еще большего разобщения. А Гельмгольца — того талант заставил тревожно ощутить свою особенность и одинокость. Общим у обоих было сознание своей индивидуальности. Но физически неполноценный Бернард всю жизнь страдал от чувства отчужденности, а Гельмгольц совсем лишь недавно, осознав свою избыточную умственную силу, одновременно осознал и свою несхожесть с окружающими. Этот теннисист-чемпион, этот неутомимый любовник (говорили, что за каких-то неполных четыре года он переменил шестьсот сорок девушек), этот деятельнейший член комиссий и душа общества внезапно обнаружил, что спорт, женщины, общественная деятельность служат ему лишь плохонькой заменой чего-то другого. По-настоящему, глубинно его влечет иное. Но что именно? Вот об этом-то и хотел опять поговорить с ним Бернард — вернее, послушать, что скажет друг, — ибо весь разговор вел неизменно Гельмгольц.
При выходе из лифта Уотсону преградили путь три обворожительные сотрудницы Синтетически-голосового отдела.
— Ах, душка Гельмгольц, пожалуйста, поедем с нами в Эксмур на ужин-пикничок, — стали они умоляюще льнуть к нему.
— Нет-нет, — покачал он головой, пробиваясь сквозь девичий заслон.
— Мы только тебя одного приглашаем!
Но даже эта заманчивая перспектива не поколебала Гельмгольца.
— Нет, — повторил он, решительно шагая. — Я занят.
Но девушки шли следом. Он сел в кабину к Бернарду, захлопнул дверцу. Вдогонку Гельмгольцу полетели прощальные укоры.
— Ох, эти женщины! — сказал он, когда машина поднялась в воздух. — Ох, эти женщины! — И покачал опять головой, нахмурился. — Беда прямо.
— Спасения нет, — поддакнул Бернард, а сам подумал: «Мне бы иметь столько девушек и так запросто». Ему неудержимо захотелось похвастаться перед Гельмгольцем. — Я беру Линайну Краун с собой в Нью-Мексико, — сказал он как можно небрежней.
— Неужели? — произнес Гельмгольц без всякого интереса. И продолжал после небольшой паузы: — Вот уже недели две как я отставил все свидания и заседания. Ты не представляешь, какой из-за этого поднят шум в институте. Но игра, по-моему, стоит свеч. В результате… — Он помедлил. — Необычный получается результат, весьма необычный.
Телесный недостаток может повести к своего рода умственному избытку. Но получается, что и наоборот бывает. Умственный избыток может вызвать в человеке сознательную, целенаправленную слепоту и глухоту умышленного одиночества, искусственную холодность аскетизма.
Остаток краткого пути они летели молча. Потом, удобно расположась на пневматических диванах в комнате у Бернарда, они продолжили разговор.
— Приходилось ли тебе ощущать, — очень медленно заговорил Гельмгольц, — будто у тебя внутри что-то такое есть и просится на волю, хочет проявиться? Будто некая особенная сила пропадает в тебе попусту — вроде как река стекает вхолостую, а могла бы вертеть турбины. — Он вопросительно взглянул на Бернарда.
— Ты имеешь в виду те эмоции, которые можно было бы перечувствовать при ином образе жизни?
Гельмгольц отрицательно мотнул головой.
— Не совсем. Я о странном ощущении, которое бывает иногда, — будто мне дано что-то важное сказать и дана способность выразить это что-то, но только не знаю, что именно, и способность моя пропадает без пользы. Если бы по-другому писать или о другом о чем-то… — Он надолго умолк. — Видишь ли, — произнес он наконец, — я ловок придумывать фразы, слова, заставляющие встрепенуться, как от резкого укола, — такие внешне новые и будоражащие, хотя содержание у них гипнопедически-банальное. Но этого мне как-то мало. Мало, чтобы фразы были хороши; надо, чтобы целость, суть значительна была и хороша.
— Но, Гельмгольц, вещи твои и в целом хороши.
Гельмгольц пожал плечами:
— Для своего масштаба. Но масштаб-то у них крайне мелкий. Маловажные я даю вещи. А чувствую, что способен дать гораздо более значительное что-то. И более глубокое, взволнованное. Но что? Есть ли у нас темы более значительные? А то, о чем пишу, — может ли оно меня взволновать? При правильном их применении слова способны быть всепроникающими, как рентгеновы лучи. Прочтешь — и ты уже пронизан и пронзен. Вот этому я и стараюсь, среди прочего, научить моих студентов — искусству всепронизывающего слова. Но на кой нужна пронзительность статье об очередном фордослужении или о новейших усовершенствованиях в запаховой музыке? Да и можно ли найти слова по-настоящему пронзительные — подобные, понимаешь ли, самым жестким рентгеновским лучам, — когда пишешь на такие темы? Можно ли сказать нечто, когда перед тобой ничто? Вот к чему в конце концов сводится дело. Я стараюсь, силюсь…
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
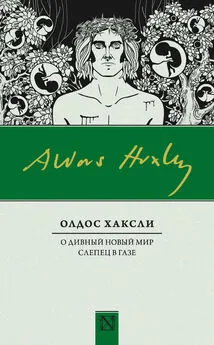
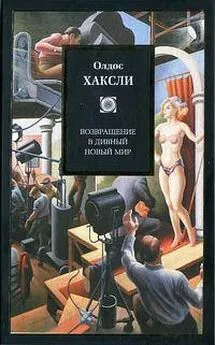


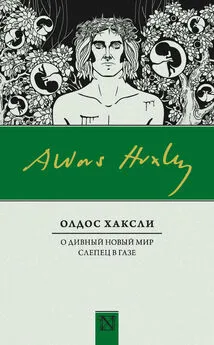
![Олдос Хаксли - О дивный новый мир [Прекрасный новый мир]](/books/1055203/oldos-haksli-o-divnyj-novyj-mir-prekrasnyj-novyj.webp)

![Олдос Хаксли - Возвращение в дивный новый мир [litres]](/books/1095316/oldos-haksli-vozvrachenie-v-divnyj-novyj-mir-litre.webp)