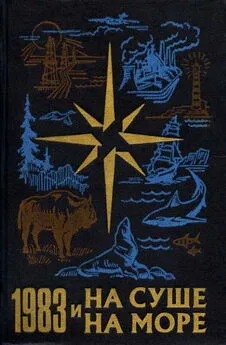Владимир Тюрин-Авинский - На суше и на море - 1983
- Название:На суше и на море - 1983
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Мысль
- Год:1983
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Тюрин-Авинский - На суше и на море - 1983 краткое содержание
empty-line
5
empty-line
7 empty-line
8 0
/i/55/692455/i_001.png
На суше и на море - 1983 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Долго стоял я, провожая взглядом лебедей. Изменив курс, птицы перестроились, и из беспорядочной стаи получилась четкая вереница с вожаком впереди. Над лебедями неслись влажные весенние облака, то открывая синие прогалины, то закрывая их, а белые птицы, с трудом преодолевая сильный встречный ветер, улетали все дальше и дальше. И совсем уже растаяла вдали лебединая стая, но еще долго слышались трубные волнующие крики. А я все стоял посреди безлюдных снежных равнин, подняв голову вверх.
Шли годы. По роду своей работы я получил возможность гораздо чаще бывать на лоне природы, пристально вглядываться в небеса. Правда, основные объекты моих наблюдений, насекомые, живут больше на земле и растениях, но весною и осенью я нередко направляю в небо бинокль в надежде увидеть перелетных птиц. Иногда пролетит стайка уток или чаек, а то чибисы мелькнут своими бело-черными крыльями, с тонким свистом пронесется в голубой выси десяток-другой острокрылых стрижей.
А вот крупных птиц — гусей, лебедей, орлов — во время перелетов видишь все реже и реже. Журавлиные клинья, которых в сороковых годах в этих краях встречалось великое множество — иной раз они шли буквально волна за волной, — стали редкостью, да и размеры стай далеко уж не те. Может, журавли сменили маршрут? Как бы то ни было, небеса в окрестности Исилькуля лишены ныне романтичного зрелища.
Ну а что же лебеди? Увы, после той памятной встречи их мне довелось видеть всего дважды: один раз на дальнем озере заметил две пары белых птиц, да еще раз, тоже весной, низко-низко пролетела всего одна птица. С тех пор — как отрезало, будто и не было той чудесной картины, что описана здесь.
И я теперь с тревогой думаю:; неужто моим детям и внукам, людям грядущих поколений, кому доведется жить в этих краях, не суждено увидеть волнующее зрелище — снежные голубые просторы, а над ними стаю белых ширококрылых птиц? Неужто они останутся лишь на репродукциях картины Рылова?
Где вы, лебеди, отзовитесь!
Есть под Воронежом поселок Рамонь, а недалеко от него небольшой научный городок, в котором я жил и работал, увы, всего один год. «Увы» — потому что уж очень по душе пришлись мне те милые края, истинно русские, с лесами и оврагами, ручьями и речками, плодородными полями, но почти по-южному долгим летом и мягкой зимой. Однако пришлось с ними вскоре расстаться: в который уж раз позвала к себе Сибирь…
Ярче других из того «воронежского года» запомнилась мне одна картина: цветут заливные луга. Сразу же за зданиями научных учреждений начинался овраг, переходящий в лог, сначала небольшой, затем обширный и глубокий. Справа от него — село Айдарово, подальше — деревушка с патриархальным названием Старое Животинное. Местность, где лог впадал в долину речки Воронеж, именовалась Займищем, недалеко от которого и начинались заливные луга. Пешком туда добраться можно было, лишь когда сходила вода и начинали цвести травы.

Не знаю, удастся ли передать это цветение словами — тут больше подошла бы кисть. Но мастерство нужно незаурядное, чтобы изобразить красками ту дивную картину. А было там всего четыре цвета… Зеленая трава, но не просто зеленая, а сочнейшего, изумрудно-янтарного оттенка, подобного которому на обычных «сухих» лугах не увидишь. По этому фону были щедро рассыпаны цветы. Куртины желтых лютиков напоминали скопления множества солнц, расположенных капризно-неравномерно: кое-где луг буквально заливался желтым.
Зато очень аккуратно по этому дивному ковру были рассыпаны сиреневые, закрученные пышной спиралью пирамидки мытника и коричнево-фиолетовые плотные колокола рябчиков, обращенные вниз, так что лоснящиеся их донышки отражали небо, и потому на цветы ложились матовые лиловые блики.
Вот это сочетание — зеленого, желтого, сиреневого и фиолетового — было настолько сочным, богатым, ярким, что в глазах рождалось необыкновенно приятное мерцание, не дающее оторваться от этой картины, которую оживляли шмели: залезали в колокола рябчиков, и те клонились под тяжестью грузных насекомых…
До лугов было довольно далеко, но мы много дней подряд ходили в эти удивительные места и все не могли насытиться их трепетно-сочной красотой.
А потом все это скосили. И было по-детски обидно и досадно: неужели люди не видят такую красу или, видя, намеренно ее губят, чтобы не увидели другие? Я, разумеется, отлично знал, что лучшего сена, чем с заливных лугов, не бывает. И конечно же косцы видели всю эту прелесть и потому отдавались работе с удовлетворением. Очень хорошо радость этого труда передана в замечательной картине известного художника Пластова «Сенокос».
А тамошние травы, как видно, давно привыкли к ежегодному кошению. И в начале лета до самой поры сенокосной сияют-переливаются зеленым, сиреневым, желтым и фиолетовым заливные воронежские луга — за Рамонью, за Айдаровом, за Животинным, на Займище — во славу природы и на радость людям.
И все же досада в душе осталась. Почувствовав, что воронежская благодатная земля ждет от меня не созерцательной любви, а каких-то конкретных дел, я до тех пор не успокоился, пока не принял активного участия в организации микрозаповедника местных насекомых и растений под той же Рамонью.
Вроде это уж совсем иная история, но упоминаю об этом потому, что, если бы не видел я цветения заливных лугов у речки Воронеж, не так бы вошел в душу этот край, и очень возможно, я отступил бы перед трудностями, связанными с организацией второго в стране специального заповедника насекомых.
А он, опекаемый ныне Всероссийским институтом защиты растений и Воронежским сельхозинститутом, процветает и по сей день…
Художник-анималист Н. Н. Кондаков, автор большого числа точнейших изображений рыб, насекомых, птиц и зверей, иллюстрирующий многие научные издания, в том числе Большую советскую энциклопедию, поздравил меня как-то с праздником такими словами: «Надеюсь, в ваших заповедниках для насекомых уже и эльфы развелись и вам-то они уж наверняка покажутся — не будут прятаться, как от недобрых людей!» При этом послании был приложен рисунок эльфа, как себе представляет этих сказочных существ художник.
Николай Николаевич попал, что называется, в самую точку. Эльфы действительно у меня завелись, правда, обличье у них немножко другое: нежные крылья длиннее и шире, а глаза — большие, сияюще-золотые.
И они тоже часто предстают передо мной, особенно теплыми летними ночами. То порхают меж темными кустами, то прилетают прямо в лабораторный домик, что мы ставим на лето в микрозаповедниках под Исилькулем и Новосибирском: эльфы летят ночами на свет лампы и тихонечно ходят по столу, позволяя даже брать себя в руки и любоваться ими вблизи.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: