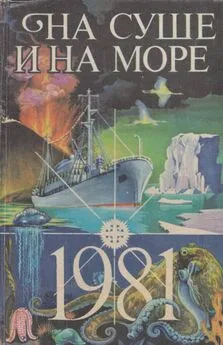Анджей Чеховский - На суше и на море 1981
- Название:На суше и на море 1981
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Мысль
- Год:1981
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анджей Чеховский - На суше и на море 1981 краткое содержание
На цветной вклейке публикуются также фотоочерки о Карпатском заповеднике и Новой Зеландии. cite Оцифровщик. empty-line
7 0
/i/53/692453/i_001.png
На суше и на море 1981 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
История ледового флота началась немногим более ста лет назад в финском заливе. Ранние морозы в 1864 году сковали Финский залив. И вдруг жителей Ораниенбаума облетела весть, что в порту бросил якорь пришедший из Петербурга пароход «Пилот», принадлежавший купцу Бритневу. Это было неслыханно. Жители города устремились к гавани, чтобы собственными глазами увидеть это чудо.
«Пилот» же невозмутимо дымил, демонстрируя жителям свой необыкновенный закругленный нос, благодаря которому он не упирался в лед, а наползал на льдину и давил ее собственной тяжестью. Льдина раскалывалась, а «Пилот», продвинувшись, наполнил на следующую. Таким образом, он, строго говоря, не колол льды, а продавливал их, но название «ледокол» закрепилось за подобного типа судами сразу, хотя техническая идея осталась неизменной.
В 1871 году замерз Гамбургский порт. В Петербург прибыли немецкие инженеры и купили у Бритнева чертежи его «Пилота». Так Запад начал строить ледоколы.
В России дело продвигалось медленно. Понадобились недюжинные энергия и настойчивость адмирала С. О. Макарова, чтобы преодолеть косность царских чиновников. Адмирал сразу оценил достоинства «Пилота» и ту неоценимую услугу, какую могут оказать ледоколы России с ее замерзающими морями.
В 1898 году по его проекту был построен первоклассный по тем временам ледокол «Ермак» водоизмещением 8730 тонн. Название было выбрано не случайно, оно отвечало его предназначению. Дедушка русского ледокольного флота обладал богатырской силой в девять тысяч лошадиных сил и мог продавливать льды почти метровой толщины.
Россия вернула себе лидерство в строительстве ледоколов.
Однако ледокол — судно служебное, а «Капитан Бондаренко» — транспортное. Его задача доставка грузов, а не проводка судов. Усиленный ледовый класс придает ему только непреклонность при встрече со льдами. Он, разумеется, не ищет льдов, но и не пасует перед ними. Идея постройки серии «броненосцев» для Дальневосточного бассейна, в зону которого входят и арктические моря, имела немаловажное значение.
Первыми плавать во льдах начали поморы. При постройке своих судов они выработали особые приемы. Судно не строили, а шили без болтов и гвоздей. Для сшивания досок использовали легкие прутья. Такие шитики неплохо переносили удары о плавающие льды. При ледовом сжатии яйцевидная форма корпуса помогала шитику выскользнуть из ледяных объятий. Льды не могли раздавить шитик, а только выжимали его вверх. Для деревянного парусника это был не такой уж плохой исход в поединке со льдами. Такая живучесть судна была первой серьезной победой человека в высоких широтах.
В каждом ледовом капитане должно быть что-то от помора, ибо к классическим добродетелям лихого моряка он должен прибавить умение бороться со льдами.
В старину говорили: «На небе бог — в море капитан». Других промежуточных инстанций моряк не знал, да они ему были и ни к чему.
Это раньше. Ну а во льдах еще и теперь капитан, и только он один, определяет степень риска, когда дело касается изменчивой ледовой обстановки. Обычно транспортное судно не сунется в сплоченные льды, которые могут разорвать обшивку, как бумагу, и сломать винт. Такое судно подождет ледокол. Сам ледокол чувствует себя во льдах уверенно, на то он и ледокол. А вот транспортное судно ледового класса — это особая статья. Оно крепче обыкновенного транспортника, но слабее ледокола. Подождать ледокол ему не позволяет класс и самолюбие «броненосца». Оно обязано форсировать льды. А как оно выйдет из ледовой переделки, зависит от слаженной работы экипажа и опыта капитана.
Суда, уходящие в ледовое плавание, надежно бункируются и снабжаются всем необходимым. Аварийного запаса должно быть наполовину больше обычного. Осушительные и водоотливные системы здесь держат в постоянной готовности.
Перед выходом в море наш капитан велел проверить исправность рулевого устройства, осмотреть надежность крепления спасательных шлюпок, якорей и грузовых стрел. И в порту и в море боцман то и дело проверял найтовку палубного груза, чтобы он не сместился при качке. Только убедившись в надежности креплений, боцман в который-то раз проклял клинкер, которым были засыпаны палубы и такелаж, и взялся за брандспойт вместе с палубными матросами. Приборка заняла почти весь первый день рейса. К заходу солнца «броненосец» был вымыт и прибран. Как бы приветствуя это, появилась стая дельфинов и сопровождала корабль, резвясь между белыми барашками волн. Когда в небе зажглись первые звезды, дельфины исчезли. Матросы, свободные от вахты, собрались в столовой, зажужжала кинопередвижка. Из коридора в кинозал доносился аромат хлеба, испеченного в судовой пекарне.
Потом прошли сутки чистой воды, и на третий день в Охотском море появился первый блинчатый лед — предвестник ледовых полей.
Сплоченность дрейфующих льдов определяют по десятибалльной шкале. Чистая вода — это ноль баллов. Сплошной лед — десять. Если говорят «шестибалльный лед», значит, имеют в виду, что видимая акватория моря покрыта льдами на шестьдесят процентов.
Практика показала, что при сплоченности льдов в три балла все суда идут без потери скорости. Но уже при четырех-шести баллах корабли ледового класса наполовину теряют ее, а дальше требуется уже ледокольная проводка. Это все, так сказать, общая формула. А теперь вернемся к нашему «броненосцу». Самое время немного рассказать о капитане.
Евгений Иванович Осьмак — выпускник Ростовского мореходного училища имени Седова, куда поступил в 1956 году. Два года до этого плавал матросом на Азовском море. Кончил школу и в море подался. О выборе никогда не жйлел. Начало его моряцкой жизни было ознаменовано немаловажным событием. Впервые после войны, в 1957 году, ушел в плавание наш знаменитый учебный парусник «Товарищ». После первого курса Осьмак попал на этот парусник. Девять месяцев под парусами вокруг Африки, далее Сингапур, острова Индонезии — как еще могут воплотиться самые горячие юношеские мечты? На «Товарище» истинными моряками становились вчерашние «салага».
Что это за моряк, который не бегал по вантам, не качался на рее над морской бездной, убирая паруса, не поднимал вручную якорь? «Море, — говорит Осьмак, — надо почувствовать всем своим существом. Да когда молод еще, когда ветер, звезды и море для тебя все на свете». Капитан немногословен и внешне суховат. Решив, что он ударился в «лирику», пояснил свою мысль: «В общем, без паруса не моряк. Ну, вроде обычного механизатора». Значок, выпущенный в честь первого послевоенного плавания «Товарища», он носит постоянно.
…Сначала мы придерживались кромки основного льда. Лавировали в поисках полыней, потом довернули на север курсом, рекомендованным ледовой службой. (Карту ледовой обстановки составляют патрульные самолеты. Она передается всем судам, находящимся в этом районе.) Когда зашли в настоящие льды, капитан со старпомом встали на ледовую вахту. Теперь они должны были менять друг друга через каждые шесть часов. Капитана словно подменили. Создавалось впечатление, будто он только и ждал этой минуты. Он нередко прихватывал и часы вахты старпома, мотивируя тем, что у того, дескать, и без того дел невпроворот.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: