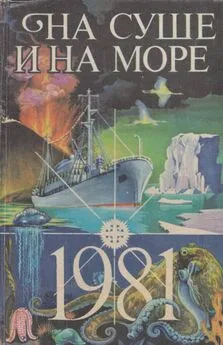Анджей Чеховский - На суше и на море 1981
- Название:На суше и на море 1981
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Мысль
- Год:1981
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анджей Чеховский - На суше и на море 1981 краткое содержание
На цветной вклейке публикуются также фотоочерки о Карпатском заповеднике и Новой Зеландии. cite Оцифровщик. empty-line
7 0
/i/53/692453/i_001.png
На суше и на море 1981 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
На одном из островов Средиземного моря осталась стоять на столе из камня моя недопитая до конца тяжелая чаша. И сегодня, спустя много времени, я могу заглянуть в эту широкую чашу и на сверкающей поверхности напитка увидеть виноградную лозу с клочком неба, заметить живое и смутное отражение своего лица и рядом крестьянскую девушку, что, охорашиваясь и смущаясь, произносит глубоким голосом: «У нас есть только сыр, хлеб, маслины и вино». В том небольшом остатке светлой жидкости — разве что на могилу плеснуть, — который уцелел после того, как я утолил жажду, когда-то я мог растворить не только то, что я есть, чем был, что видел и знал о жизни, но и все вина нашего мира и целиком этот мир со всеми его переменами и всеми его творениями и людьми, живыми, умершими и пока еще не рожденными.
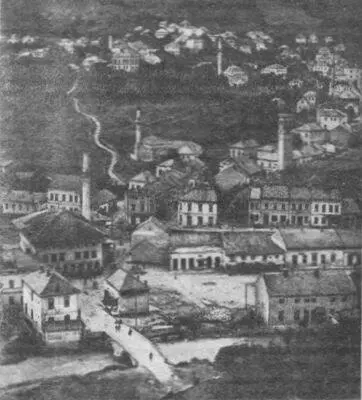
Долгий день на летнем море, вино, хлеб, маслины и улыбающаяся женщина с теплым голосом, рождающимся глубоко в груди. Да, это было много больше, чем мне казалось необходимо в моем скоротечном бытии.
Но что недопитая чаша, которую я оставил однажды летом на острове?! В этот миг у меня в сознании она сверкает и искрится в бесконечности своей золотой поверхностью. И однако, я вижу с каждым днем отчетливее, как пучина медленно остается позади меня, и чувствую с неумолимой ясностью, что все вино этой страны есть лишь мертвое, закрытое море, из которого нужно искать выход в океаны, нас ожидающие.
Удаляясь все дальше, оглядываясь, подобно человеку, покидающему любимый и знакомый край, мы произносим искренние последние слова во славу вина. Все мы его искрой, словно в лучах иного солнца, отогрелись и утешились. Кому из нас не довелось переживать дни, когда едешь в одиночестве, убегая от одного, меньшего одиночества в другое, большее, и когда на этом пути нет ничего из того, что ищешь, ни живого человеческого существа, ни желанной мысли, но ты остаешься один на один со смертоносной пустыней времени перед собою, с единственной возможностью брести по свету, подобно тому как букашка ползает вокруг травинки, без надежды, без будущего и без видимого смысла; когда единственной пищей является тот горький и высохший кусок, который ты никогда не доедал, но который застрял в горле с самого детства и который лишь вино может на мгновение смягчить и протолкнуть в желудок. Кого не утешило и не поддержало тогда вино? И найдется ли человек, который ему ничем не обязан?
За этими словами возникает надежда, смелая и небывалая, что текущий и реальный сок хрупкой лозы станет однажды лишь невидимым запахом и что потом летучий и непостоянный аромат земного плода претворится в чистый дух, который существует веками непостижимым для нас образом, без конца и перемены.
Эта надежда есть то самое, что последним мы видим в каждом стакане вина, пока держим его и согреваем охлажденный сосуд теплом своей ладони, внимая досужему разговору досужих людей. И минута молчания, пока мы созерцаем светлую поверхность наполненной чаши, по сути дела есть тайная, безмолвная здравица в честь этой нашей надежды. Ибо даже в чаше самого темного вина мы замечаем тонкий и быстрый лучик света, словно распахнутые ворота в пределы без звука и знака, без образа и лика, без всякого вина и дурмана. И пока мы безмолвствуем, погруженные в этот отсвет, внутри нас распускаются почки предчувствия, что все вина этой земли испаряются, точно капля воды на раскаленной плите, что, пия без меры и без конца, мы по существу жаждущими прошли по этому миру и что в миг прозрения Истины мы встанем с пересохшим горлом, изнывая от жажды по одной-единственной капле неведомой милости.
Послесловие переводчика
За последние годы мы имели возможность сравнительно часто видеть на книжных прилавках, на страницах наших периодических изданий переводы произведений крупнейшего югославского писателя XX века, лауреата Нобелевской премии по литературе Иво Андрича (1892–1975). Тонкий художник и своеобразный мыслитель, стяжавший мировую известность своими романами и новеллами, Андрич обогатил современную югославскую прозу и жанром оригинального лирико-философского очерка, созданного в результате его многочисленных путешествий. Он любил путешествовать и в своей жизни немало ездил, хорошо знал Европу, повидав, вероятно, все ее страны, бывал в Африке, Китае. Его тоиСкие, полные благожелательности и трезвой обстоятельности путевые зарисовки, странички своеобразного дневника, — единственные в своем роде в литературе югославских народов.
«Зеленая страна» Португалия, холодная Скандинавия, знойная Испания с ее городами-памятниками, «радостный город» Рим, светлый героический Ленинград, улицы которого «говорят на дружеском и понятном языке, языке разума и спокойной, непреходящей радости жизни», и жаркое Баку — таковы примерные географические координаты его путешествий.

Иво Андрич несколько раз приезжал в Советский Союз (впервые в 1946 году). Он был одним из первых югославских гостей в разрушенном войной, ставшем символом победы Сталинграде. Вместе с писателями Советского Азербайджана он отмечал юбилей Низами. Возвратившись на родину, он выступал во многих городах Югославии с рассказами о нашей стране и ее людях (очерки Иво Андрича об СССР опубликованы в журналах «Звезда», «Иностранная литература», в его книге «Рассказы, эссе, очерки». М., 1977).
Однако главной темой его путевых записей остается Родина, Югославия, самые дальние и прекрасные ее уголки, которые он умел описывать трепетно и нежно. Андрич любил Словению, где часто отдыхал последние годы; его радовала и делала счастливым маленькая македонская речка Радика, увиденная в молодости; он наслаждался видом Охридского озера, взволнованные и сильные слова находил он всякий раз, говоря о родной Боснии.
В нашем ежегоднике мы публикуем цикл очерков разных лет (1932–1964) о Югославии. Наблюдения писателя над «лицом земли» на первый взгляд мимолетны, случайны; записанные на бумаге, они напоминают эпизоды, как бы мельком увиденные путником из окна мчащегося поезда. Но это поезд жизни, жизни многогранной и неповторимой в каждой своей детали и в каждом мгновении.
Из небольшого, очень лаконичного и сдержанного, отнюдь не претендующего на категоричность очерка, лирического в своей основе, вырастает облик страны с ее пейзажами и людьми, с их характерными национальными особенностями. Без пафоса и патетики, через точно обозначенные и умело отобранные детали Андрич переносит нас в тот или иной край Югославии, самобытный и неповторимый, и не возникает сомнений в том, что он видит и изображает самое главное, самое ценное, самое характерное. Этим объясняется «многомерность» и емкость записей Иво Андрича, которые помимо своей художественной ценности обретают и подлинно научную, историко-географическую, познавательную значимость, тем более что Андрич, будучи историком по образованию, умело владел и методикой научного наблюдения и описания.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: