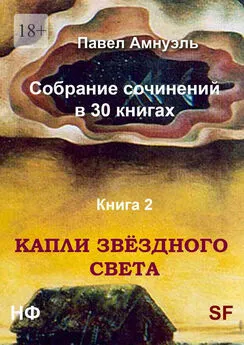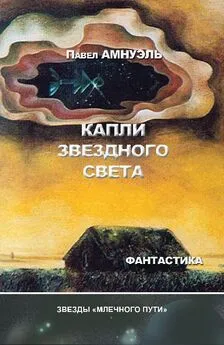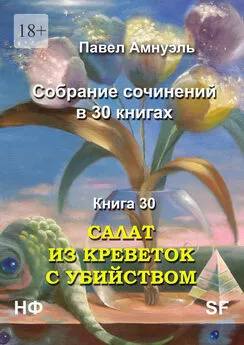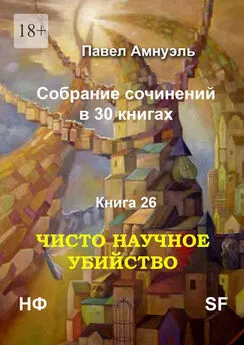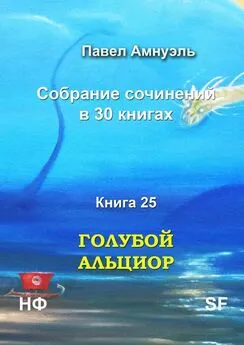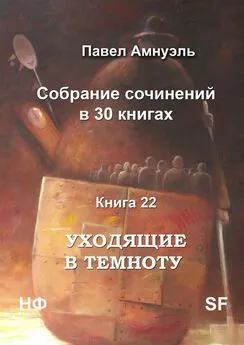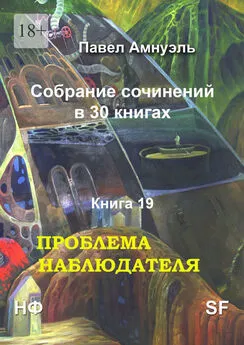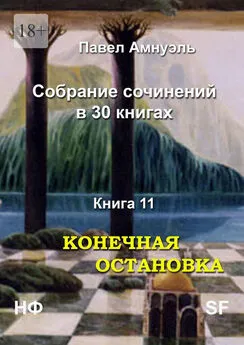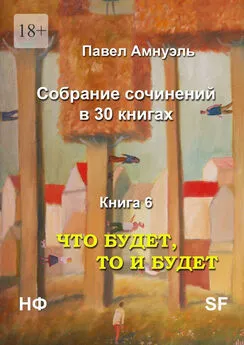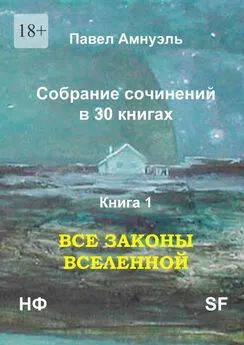Павел Амнуэль - Капли звёздного света. Собрание сочинений в 30 книгах. Книга 2
- Название:Капли звёздного света. Собрание сочинений в 30 книгах. Книга 2
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:9785005615954
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Павел Амнуэль - Капли звёздного света. Собрание сочинений в 30 книгах. Книга 2 краткое содержание
Капли звёздного света. Собрание сочинений в 30 книгах. Книга 2 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Вот мы с Романом и предположили, что Хафра был по происхождению нубийцем, а не египтянином. Он с помощью жрецов захватил власть в стране, свергнув фараона Менкау-Ра (царствование которого действительно было очень коротким, а имя его стерто с таблиц и памятников). На официальных статуях Хафру изображали типичным египтянином (как, например, на статуе, которую можно увидеть в Музее им. Пушкина в Москве), но Хафра был тираном, и придворный скульптор решил увековечить недобрую память о фараоне, изобразив его истинное лицо на Сфинксе, которого сам же Хафра и поручил создать. А чтобы обман не был обнаружен раньше времени, скульптор покрыл нубийское лицо Сфинкса алебастровой маской с «придворным изображением» Хафры. Со временем алебастр осыпался, и народу предстало истинное лицо властителя…
Повесть мы отправили в журнал «Искатель» и достаточно по тем временам быстро получили от редактора Олега Соколова письмо, в котором говорилось что-то вроде: «Ребята, хорошо написали, но напечатать не можем – сами знаете почему».
Мы сделали вид, что не поняли намека, и попросили ответить прямым текстом. Отвечать редактор не стал – ни прямым текстом, ни косвенным, а когда я во время очередной командировки в Москву, явился в редакцию, Соколов прикрыл дверь кабинета и объяснил, наконец, ситуацию:
– Да вы что? У вас в каждой строчке намек на Сталина! Это нельзя. Линия сейчас такая, что да, были у Сталина кое-какие недостатки, но в целом это великий человек. Как ваш Хафра. Посмертный суд? Маска Сфинкса? Нет-нет!
– Но повесть-то хорошая, – продолжал Соколов в раздумье, – я действительно хотел ее напечатать. Что если для начала изменим название? «Суд» – ни в коем случае. Назовите нейтрально – например, «Сфинкс».
Я не стал спорить – пусть будет «Сфинкс». Вернулся в Баку, почти уверенный, что на этот раз ответ из редакции окажется положительным. Но времена, видимо, наступили совсем другие. «К сожалению, – написал Соколов месяца через два, – ваша повесть не может быть опубликована в „Искателе“. Претензий к литературной стороне произведения у редакции нет, но повесть не соответствует профилю нашего издания».
Повесть, как мы потом убедились, не соответствовала профилю ни одного печатного издания в Советском Союзе. Мы стали посылать рукопись во все подряд редакции толстых и тонких журналов – от «Нового мира» до «Юности». Ответы, к счастью, приходили достаточно быстро, иначе эта процедура заняла бы лет сто. Но уже к концу 1970 года мы с Леонидовым пребывали в полном убеждении, что о Сталине нельзя не только писать что-то критическое, но даже намекать на то, что в повести могут содержаться намеки…
Формально же ответы сводились к фразе: «К литературной форме претензий нет, но профиль не наш». У всех журналов вдруг появился один и тот же профиль.
Поскольку посылать повесть больше было просто некуда, я положил рукопись в папку, папку – в книжный шкаф и забыл о ней на долгие семнадцать лет. Даже когда началась перестройка, я вспомнил об этой повести далеко не сразу. Лишь в 1988 году достал покрытую пылью папку, перепечатал рукопись (не отправлять же в редакцию желтые старые листы!), назвал повесть, как и было задумано, – «Суд», и отправил в тот же «Искатель», предполагая пройти заново знакомый путь отказов.
Но времена действительно изменились! И редактор в «Искателе» был уже другой – Евгений Кузьмин, он отправил повесть на рецензию доктору исторических наук Игорю Можейко (которого любители фантастики знали под именем Кира Булычева) и получил на этот раз положительный отзыв, который и переслал мне с кратким сопроводительным письмом: «Повесть будет опубликована в первом номере за 1989 год». Можейко, естественно, прекрасно понял все содержавшиеся в повести намеки и аллюзии. Более того, именно эти аллюзии стали теперь главным достоинством «Суда»!
Хотя на самом-то деле это была историческая повесть о судьбе художника в тоталитарном обществе. Будь то древний Кемт, современный СССР или иная страна, во главе которой стоит тиран…
Год спустя «Суд» был опубликован в сборнике антирелигиозных детективов «Брат Иуда». История тоже достаточно любопытная. Вскоре после публикации повести в «Искателе» я получил письмо-предложение от составителя сборника Сергея Белозерова.
«Но ведь это будет сборник детективов, да еще и на антирелигиозную тему, – с недоумением ответил я. – Ни к детективному жанру, ни к антирелигиозной пропаганде „Суд“ отношения не имеет».
«Да, – согласился Белозеров, – но повесть мне очень понравилась, а объяснение, почему она оказалась в таком сборнике, мы уж как-нибудь придумаем».
И придумал – при этом Белозеров очень точно сформулировал политическую идею, которая в нашей повести содержалась и из-за которой «Суд» двадцать лет не мог найти издателя. «…Не стоит причислять повесть ни к историческому, ни к детективному жанру, хотя элементы обоих в ней налицо. Это скорее притча, обязанная своим возникновением одному из самых трагических периодов недавней истории нашей страны»…
…В 1968 году, когда повесть была представлена Комиссии, вывод был единодушным: хорошо, но – непроходняк. Это было ясно всем членам Комиссии, кроме авторов, которые упорно в течение нескольких лет продолжали посылать рукопись в разные журналы…
***
Мы с Ромой Леонидовым продолжали вместе писать фантастику до самого отъезда Ромы в Краснодар. Потом – по переписке – написали (точнее, дописали, поскольку начали, когда Рома был еще в Баку) повесть «Суд». Но наши эксперименты в области фантастики закончились в конце шестидесятых.
Идей, как нам казалось, у нас хватало. Например, идея хронокинеза: изменение силой мысли ситуаций, уже происходивших в прошлом. Генриху идея понравилась – мы рассказали о ней еще до того, как начали писать рассказ. О придуманном сюжете рассказывать, однако, не стали – получили «добро» на идею и стали писать. По сюжету, дело происходило во время Гражданской войны в секретном «институте» белых на Урале. Главным персонажем рассказа, от лица которого велось повествование, был белый офицер, биолог по дореволюционной профессии. В «институте» проводили эксперименты на детях-сиротах. С помощью фантастического медицинского препарата мозг ребенка получал возможность «телепатии во времени», и главный герой собирался повернуть вспять российскую историю – не допустить Октябрьской революции.
Наверно, если бы мы рассказали Генриху сюжет, он посоветовал бы придумать что-нибудь другое, более «проходное». Но мы сначала написали рассказ и только потом показали Альтову. Нас удивило, что он не исправил в тексте ни слова. «Интересно, – сказал Генрих, возвращая рукопись. – Хороший рассказ. Что вы с этим собираетесь делать?»
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: