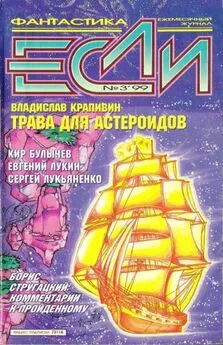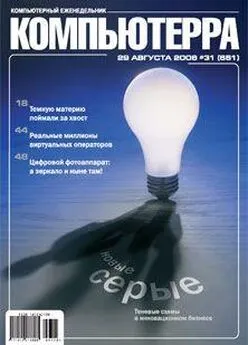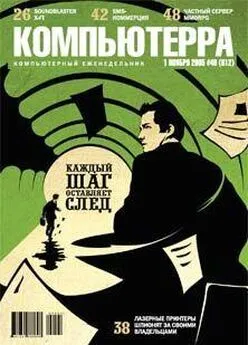Журнал «Если» - «Если», 1999 № 03
- Название:«Если», 1999 № 03
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство «Любимая книга»
- Год:1999
- Город:Москва
- ISBN:ISSN0136-0140
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Журнал «Если» - «Если», 1999 № 03 краткое содержание
Владимир МИХАЙЛОВ. ПУТЬ НАЮГИРЫ
В детективе известного фантаста знания передаются от поколения к поколению… Но очень своеобразным способом!
Владислав КРАПИВИН. ТРАВА ДЛЯ АСТЕРОИДОВ
На этом астероиде все невзаправдашнее, кроме стебельков зеленой травы и отчаянного желания вернуться на Землю.
Василий ГОЛОВАЧЕВ. ПРИГОВОРЕННЫЕ К СВЕТУ
Современные злодеи с удовольствием используют достижения науки в своих целях.
Владимир ПОКРОВСКИЙ. ДОПИНГ-КОНТРОЛЬ
Устраивая гонки в виртуальных мирах, следует время от времени остановиться, оглядеться. Иначе вы рискуете перепутать явь и вымысел.
Евгений ЛУКИН. В СТРАНЕ ЗАХОДЯЩЕГО СОЛНЦА
Трудоголик — это не диагноз, это — статья.
Сергей ЛУКЬЯНЕНКО. ЗАПАХ СВОБОДЫ
В этом мире жить вполне можно. Но хочется ли?
Кир БУЛЫЧЕВ. БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ
Газетный заголовок рассказа полностью соответствует актуальности его содержания.
Аркадий ШУШПАНОВ. ПРОЛОГ
Подводим итоги очередного этапа конкурса для начинающих писателей «Альтернативная реальность».
ВИДЕОДРОМ
В постоянной рубрике — рассказ об экранизациях произведений Александра Грина; киноверсии, дополняющие популярнейший телесериал; заметки о видеоновинках.
Максим БОРИСОВ. ТРЕВОЖНЫЕ СКАЗКИ
В рубрике «Литературный портрет» — автор центрального произведения номера.
Сергей ПЕРЕСЛЕГИН. КРИЗИС ПЕРЕПОТРЕБЛЕНИЯ
Современная российская фантастика находится на перепутье. Куда заведут ее дороги?
РЕЦЕНЗИИ
Книги продолжают выходить, рецензенты продолжают оттачивать перья…
КУРСОР
Новости из мира фантастики.
Александр РОЙФЕ. ПОДВИГ НОМЕР ТРИ
На этот раз «под лупой» новая книга популярного автора из Красноярска.
БОРИС СТРУГАЦКИЙ. КОММЕНТАРИИ К ПРОЙДЕННОМУ
Еще один этап творчества знаменитых фантастов: «Пикник на обочине», «Жук в муравейнике», «Хромая судьба»…
ПЕРСОНАЛИИ
Мини-интервью авторов номера.
«Если», 1999 № 03 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Отношения учительства обязывали обе стороны. От читателя требовались не только изучение текста, не только глубокое понимание его, но и серьезная внутренняя работа, которую можно определить как искусство прожить Текст, пресуществив этим себя. А писатель отвечал за сотворенное им Слово. Даже написанное в шутку или сказанное в пьяном бреду. Духовная работа, без которой не бывает личностного роста, и ответственность Учителя — ключевые понятия взаимоотношений «Учитель — Ученик».
Это вовсе не означало, что к каждой своей строчке писатель относился как к священнодействию. Книги писались ради денег, создавались на пари, рассказывались, чтобы развлечь больную племянницу или освободиться от опостылевшего любовного романа. А также — в качестве альтернативы сумасшествию или самоубийству. Или от скуки. Все эти обстоятельства носят, однако, внешний характер и являются привходящими, и Сунь-Цзы не зря сказал: «Всякий знает форму, посредством которой я победил, но никто не видит формы, посредством которой я организовал победу». И только Бог, Вселенная или Ее Величество Информация знали, как на самом деле приходили в мир новые Смыслы.
Во всяком случае, диапазон приемлемого в литературных произведениях был достаточно узок. Далеко не все тексты, которые могли быть созданы, прочитаны и проданы, имели право на существование. Может быть, и не все с удовольствием соблюдали эти необозначенные ни на каких картах «границы дозволенного», но литература в целом все-таки не представляла собой ту «Чашу отравы», о которой писал свой последний роман И.Ефремов.
Миссия писателя — «бремя Белого человека» для самых сильных — обязывала.
Когда я говорю о существенном изменении литературной реальности, то имею в виду именно разрушение традиции учительства. С тех пор как книга стала только товаром, писатель превратился, скорее, в приказчика универсального магазина. Должность уважаемая (особенно, если речь идет о ювелирных изделиях и сложной технике) и прилично оплачиваемая, но на духовность не претендующая и наставничества не предусматривающая.
Соответственно, и чтение превратилось из духовной практики в потребление. Если раньше от книги требовалось быть умной (именно так: сначала умной, а уже потом талантливой, интересной, завораживающей, читабельной, — иначе не пользовались бы в ту эпоху «резонансным» спросом романы И.Ефремова, «Белые одежды» В.Дудинцева или, например, «Дети Арбата» А.Рыбакова), то сейчас мы оцениваем текст прежде всего по его способности подарить нам душевный комфорт. «Комфортную» литературу не следует отождествлять с развлекательной. Во-первых, комфортным для читателя может быть текст даже вообще не художественный — приведу для примера творчество Д.Карнеги и всенародно прославленные альтернативные истории В.Суворова. Во-вторых, не всегда развлекательный текст является комфортным: «Охота на Снарка» Л.Кэррола, например, вызывает сильное подсознательное беспокойство. Точно так же «комфортность» не синоним серости, глупости, вторичности, обыденности: плохая книга раздражает читателя и необратимо разрушает его душевное равновесие…
Комфортный текст должен обладать способностью оптимизировать и уточнять картину мира «пользователя», не ставя ее, однако, под сомнение. Иными словами, он стимулирует «развитие без развития», то есть провоцирует лишь такие изменения личности, которые препятствуют возникновению новых сущностей.
Может быть, это не так плохо, поскольку трудно и больно, а с прагматической точки зрения еще и совершенно бесполезно все время меняться, отрицая себя прежнего. В самом деле: «А чего это вы из воды выпрыгиваете?» Как и всякая структурно-устойчивая система, психика стремится прийти в состояние с наименьшей собственной энергией (то есть минимальным количеством противоречий) и навсегда остаться в нем. В этом состоянии душа находится в кажущейся гармонии с Космосом. «Кажущейся», потому что истинный Космос непрерывно меняется, поглощая новые и новые сущности… в конце концов, он поглотит, конечно, и тот уравновешенный «райский сад», который адепт комфорта путает с Мирозданием. В этой ситуации собственные состояния психики (называемые субличностями), не пытаясь конструктивно решить возникающие между ними конфликты, поддерживают видимость мира и добрососедских отношений… пожалуй, это может быть названо счастьем. Как это было в старом культовом фильме «Отроки во Вселенной»? «Мы сделаем вас счастливыми…»
«Комфортная» литература существовала всегда. Проблема не в том, что ныне она заняла все отведенные ей экологические ниши и продолжает завоевывать «жизненное пространство». Суть «кризиса перепотребления» — в априорном восприятии всех текстов как комфортных.
Первый «звоночек» прозвучал в далеком уже 1995 г., когда завершающий том «Опоздавших к лету» А.Лазарчука не вызвал заметного резонанса в среде профессиональных читателей-фэнов. Уже тогда был поставлен под сомнение критерий «хорошая книга — умная книга». Но, по крайней мере, сложному тексту еще отдавали должное.
Ныне первой и наиболее естественной реакцией на «заумь» является не желание возвыситься до высоты текста, не естественное признание: «Ваше Высочество, своим разумением вы превзошли древних. Для меня ваши мысли недоступны», — а скорее, предпринятая не столь уж негодными средствами попытка упростить текст, редуцировать его к своему уровню восприятия. Так некомфортную книгу делают комфортной.
Осенью вышла четвертая часть «шрайковского» цикла Дэна Симмонса — «Восход Эндимиона». Читательской реакцией на нее (я вновь имею в виду прежде всего профессиональных читателей) было раздраженное недоумение. Автора обвиняли во всех смертных грехах — любви к мелодраме, незнании физики, недостоверности поведения героев, этической несостоятельности замысла, логических неувязках. Религиозная концепция книги вызвала упреки в плохом знании Симмонсом буддизма и непонимании христианства. Увы, я никого не могу осудить — добрая половина этих упреков принадлежала мне самому.
Между тем достаточно перелистать первые книги тетралогии (они вышли и, соответственно, были прочитаны в предыдущую эпоху), чтобы почувствовать легкий душевный дискомфорт, от которого мы как-то отвыкли. Ведь, «вспомнив все», придется согласиться, что автор «Гипериона» и физику знал, и в философии разбирался, и концы с концами умел сплести в такой системе, как Гегемония Человечества с ее сложнейшим переплетением политических, семиотических, социальных структур, образованных конфликтным взаимопроникновением двух разумов, один из которых носит некротический характер. Эрудиция и интеллект писателя ощущаются в текстах настолько явно, что фраза «Симмонс не знал» должна восприниматься как катахреза.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: