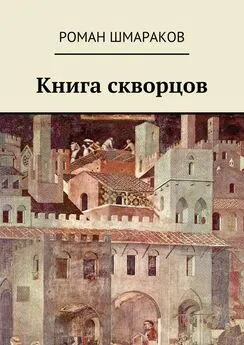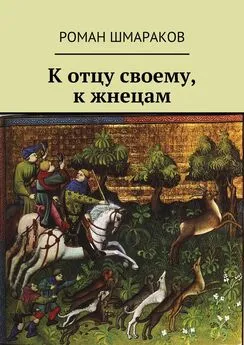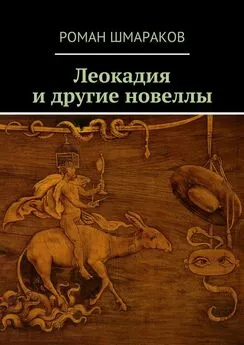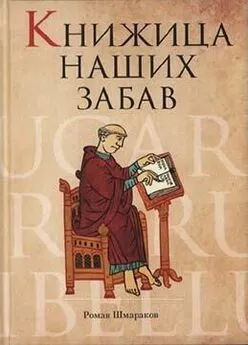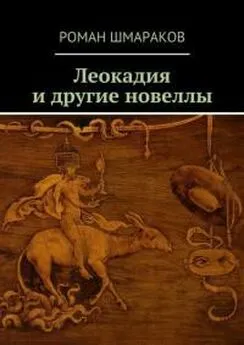Роман Шмараков - Каллиопа, дерево, Кориск
- Название:Каллиопа, дерево, Кориск
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательский Дом Мещерякова
- Год:2013
- Город:Москва
- ISBN:978-5-91045-589-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Роман Шмараков - Каллиопа, дерево, Кориск краткое содержание
«Каллиопа, дерево, Кориск» — сказка для взрослых, полная загадок, исторических ребусов, изящных словесных па и стилистических пируэтов. Рассказывая об удивительных событиях, случившихся с героями этого мистического романа, автор завораживает нас блистательной игрой ума и тонким чувством юмора. Изобилие смысловых граней и многослойность повествования позволяют разгадывать эту книгу, как увлекательную шараду. А впрочем, и без того здесь найдется все, чтобы заинтриговать читателя: в замке водятся привидения, в саду растут яблоки, заключающие в себе все страсти человеческой души, горничная путешествует по звездному небу, проложив себе путь между созвездиями с помощью горстки золы, ожившие столовые приборы перемещаются по дому стройными шеренгами, и в придачу неожиданно всплывает целый сундук любовных писем, надушенных и перетянутых ленточкам.
Каллиопа, дерево, Кориск - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Так и Филипп, если бы его не удерживала боязнь, что я подниму его на смех, или же опасение сказать что-нибудь неподобающее важности предмета, не оставил бы этого дома, где мы по несчастью находились, ни этой блистательной комнаты, не воздав хвалу той, ради которой выпало нам совершить все эти достопамятные дурачества и произнести эти речи.
— Климена, — сказал бы он, — Климена, золото Бога моего, упокоение света, побег красоты, если бы я знал о тебе лишь из людской молвы, доходящей из таких краев, куда мне не попасть, я и тогда знал бы, сколь много растеряла эта молва по дороге и как скуден ее медный язык, когда он говорит о тебе, о феникс среди людей. О Климена, защищенная область, советница, жало отар, если бы ты говорила мне каждый день обо всем, что есть в мире, начиная от хаоса и заканчивая тем, чего я не знаю, я верил бы всякому слову, хотя бы все кругом свидетельствовало мне о твоем лукавстве; и хотя бы соловьи просыпались каждое утро лишь для того, чтобы сообщить мне, что ты лжешь, я чтил бы верность твоих речей, как верность стихий их границам и как то, что птицы не живут в огне, а саламандры не посягают на воздух. Климена, Климена, уклонение, торопливость, тщетная дань, все, что есть во мне, если бы ничто не выдавало мне твоего существования и всякая вещь смолкала бы, доходя до твоего имени, я и тогда знал бы, что они скрывают, и превыше всего в мире мне были бы милы его умолчания, из всех фигур — его апосиопезы, для иных подобные тьме, кипящей крылатыми муравьями, но для меня заключающие райскую отраду. Величайшее из страданий, возмутительница людей, пожирательница печени, вечно смеющаяся, бросающая кости, сияющая нестерпимым сиянием. Бдение печалей, древний огонь, поражение мое, дающая пить, Климена.
XXXI
10 ноября
Повествование, дорогой FI., подобно преисподней — кроме свободного отношения к правдоподобию в том, что касается обеих этих областей, — еще и тем, что туда запрещается брать с собой что-либо из вещей, кроме имени. И вот я сижу на стуле, у которого подкашивается нога, потому что я люблю на нем качаться, и гляжу в окно, где идет дождь и уже темно, хотя всего лишь седьмой час вечера, и какое мне дело до всего, что происходит с нашими именами в тех коридорах, куда я их загнал, чтобы выполнить данное Вам обещание, — как себя чувствует мое имя там, проголодалось ли оно или испытывает ревность и страх, и не натерло ли оно себе ногу (должен ли я сказать: имя своей ноги), потому что ему хватило ума надеть новые, неразношенные ботинки, отправляясь в гости к человеку, которому оно твердо намеревалось понравиться, и все прочее в таком роде. Нет лучше способа испытать к себе пренебрежение, чем начать о себе рассказывать; хорошо, если успеешь забыть, что там с тобой вышло, раньше, чем закончишь. Человек едет на лошади под луной, по дороге, вдоль которой равномерно высажены тополя; он обгоняет женщину и, оглянувшись, узнает в ее удаляющихся чертах свою возлюбленную, которую оставил в другой части света, возможно, даже похоронил; нам следовало бы ограничиться, говорю я, рассказами, которые даже отдаленно не затрагивают никого из присутствующих; или вот что я фантазировал, пока мы были в столовой, — что ковер, лежащий на полу, принялся вбирать в себя разные вещи, так что они тонули в нем, как лоси в болоте, а через некоторое время, переваренные, всплывали уже в виде узора, вплетенного в ткань, и мы с Филиппом, подобрав ноги, какое-то время забавлялись осложнениями коверного сюжета, вбрасывая в него то салфетку, то вазу с розами, то почки под соусом, а потом начали погружаться и стулья, на которых мы сидели, и тут можно представить себе, как туго нам пришлось — поскольку ковер был растянут на всю залу — и какое остроумие мы выказали, чтобы выбраться оттуда: я ведь не остался навсегда в этой своей фантазии с ковром, а унес-таки из нее свои натертые ноги, если имею удовольствие рассказывать Вам об этом. Тут также можно размыслить над тем, благодаря какому сцеплению невидимых причин, среди которых индивидуальный темперамент отнюдь не играет решающей роли, люди делают из незначительных обстоятельств выводы, не мотивированные ни анализом каждого из этих обстоятельств, ни их суммой: почему, например, Филипп, некоторое время молча глядевший на соусник и кованые салфетницы, вдруг решительно сказал, что покойный барон питал к своей дочери нечестивую страсть, заставившую его желать смерти претендентам на руку Климены, когда он отчаялся удержать ее при себе иным способом. Тут уж я запротестовал и сказал ему, что мы все-таки не в романе о царе Аполлонии, «где вместо памятника над тобою — блюющий кит и ропщущие воды», что в двадцати минутах ходьбы отсюда курсирует трамвай, полный оживленными людьми неправильной формы, и что странно слышать, как Филипп, доселе упорствовавший в добром мнении о бароне, вплоть до того, что не хотел считать его привидением à dessein {42} 42 С. 210. À dessein (фр.) — нарочно, с умыслом.
, столь переменился в суждениях, — хотя судя по тому, как этот дом празднует, словно вырвавшись на свободу, кончина Эренфельда здесь расценивается как нечто заслуживающее сдержанного одобрения.
Филипп спросил, что я понимаю под привидением à dessein. Я сказал, что один мой знакомый, совершавший океанское плавание, встретил на верхней палубе человека, с которым у него нашлись общие знакомые по клубу «Новый Королевский Колпак», и после долгой беседы новый знакомец обратился к моему приятелю с деликатной просьбой, на которую, как он сказал, никогда бы не решился без основательных причин: именно, он просил о возможности переночевать сегодня в его каюте, поскольку мой приятель обмолвился, что путешествует один в двухместной. Хотя моему приятелю (Z., назовем его Z., это имя ничуть не хуже прочих) — и хотя Z. было неприятно, что случайный знакомец подловил его на упоминании каюты, где по второй кровати ездили вслед за качкой азиатская культовая статуэтка, приобретенная в порту, бутылка хереса и полевой бинокль, в который Z. намеревался разглядывать китов, — однако видя, что его знакомец в сильном смущении от того, что вынужден прибегать к таким приемам (романист добавил бы: и испытывая удовольствие при мысли, что сам он на такое никогда не пустился бы, — но я, слава Богу, не романист), Z. поспешил дать согласие, и тот, рассыпаясь в благодарностях, отправился переносить свой багаж. Z. не настаивал, однако не отказался бы услышать — в качестве умеренной платы за гостеприимство — рассказ о причинах, понудивших его знакомца к такой просьбе; когда же на полубаке пробило семь склянок [23] Пусть меня повесят, если я знаю, что это значит, но это постоянно случается на кораблях. Мне знакомы люди, утверждавшие, что они умеют считать склянки и берутся опознать их, как только услышат. Я им не верю, конечно. — Прим. автора.
и путешественники ушли с палубы в каюту, где, улегшись в постели, продолжали беседу в наступающей темноте, спутник Z., понимая, чего от него ждут, коснулся этой темы, хотя предупредил своего компаньона, что после его рассказа тот, возможно, решит, что случай заставил его разделить досуг с безумцем. Последовавший рассказ обнажил его подозрения, что в каюте, где он жил с того дня, как их корабль вышел из порта, некогда произошло что-то тягостное — возможно, ее постоялец выпрыгнул или был кем-то вытолкнут в иллюминатор и, никем не замеченный, утонул в пучине — вследствие чего каждую ночь после половины второго каюта наполняется холодом и острым смрадом, по соседней кровати растекается какая-то мерцающая слизь, а утром иллюминатор оказывается открыт, как бы туго его ни закручивали накануне. Думая, что обязан этим своему расшатанному воображению, он рассчитывал, что морской воздух и отсутствие свежих газет его укрепят, но наконец не смог терпеть еженощных истязаний и прибегнул к благородной помощи Z., без сомнения, посланной ему небом. Его повествование делалось все более бессвязным, и Z., убаюканный собственным мычаньем, коим он отвечал на реплики собеседника, погрузился в сон, из которого был исторгнут резким холодом и однообразным металлическим звуком, какое-то время наполнявшим его сновидения эскимосскими кузницами и затонувшими колоколами; чувствуя тяжелую головную боль, Z. зажег ночник, решив не церемониться с гостем, и успел заметить, что в соседней постели ничего нет, кроме сочащейся серой плесени, которая пожрала подушку и стелется по стене вверх, — за миг перед тем, как что-то шершавое, пахнущее мокрой мебелью, метнувшись к иллюминатору, ударом по голове погрузило Z. в новое забвение, насильственно избавившее его от обязанности контролировать ситуацию. Утром Z., завязав разговор со стюардом, со всей искусностью, какую позволяла ему раскалывающаяся голова, подвел его к теме чудесного, происходящего в путешествиях вообще и преимущественно на океанских лайнерах, и услышал от него под большим секретом историю о том, как один человек, несколько лет назад умерший здесь, в каюте второго класса, от острого пищевого отравления, осложненного морской болезнью, остался на корабле навсегда в качестве призрака, одержимого уникальной боязнью: не вполне осознавая драматическую перемену в своем состоянии, отделившую его от официально признанных пассажиров (тот факт, что он годами остается на корабле, не сходя на сушу и не нуждаясь в услугах ресторана, видимо, не привлекал его рефлексии), он опасался привидения, якобы поселившегося в его каюте — хотя на всем корабле не было никого, кто взялся бы оспоривать у бедняги этот торжественный статус, — и, завязывая знакомства с джентльменами на верхней палубе, просил приютить его на ночь, в чем ему помогали как отличные манеры, усвоенные при жизни и изощренные на верхней палубе, так и широкие связи в свете, хотя эти последние с годами, разумеется, убывают. «Он пуще огня боится привидения, а привидение-то он сам и есть, вот какие вещи случаются с приличными людьми и членами клубов, сэр», — так заканчивал стюард, между тем как Z., вкладывая ему в руку вознаграждение за пуант, поставленный в этой истории, обещал не распространяться о вещах, могущих повредить репутации круиза, — в частности, о случаях пищевых отравлений. Ради своего спокойствия Z. хотел бы, чтобы все это было сном, — хотя сама мысль, что сновидения достигают подобной убедительности, способна лишить покоя, — однако его бинокль с тех пор показывает такие вещи, что Z. неоднократно подумывал продать его кому-нибудь с более крепкими нервами, но до сих пор стесняется это сделать, потому что бинокль когда-то был подарен его бабушкой его дедушке и на его тыльной стороне отчетливо читаются нацарапанные перочинным ножом нежные непристойности, которые дают хороший предлог для умиления в семейном кругу, но на человека постороннего могут произвести неверное впечатление. Вот это, сказал я, привидение, которое никак не назовешь привидением à dessein — к нему можно даже испытывать сострадание, между тем как у иных привидений на лице читаются все параграфы Пандект, посвященные злому умыслу.
Интервал:
Закладка: