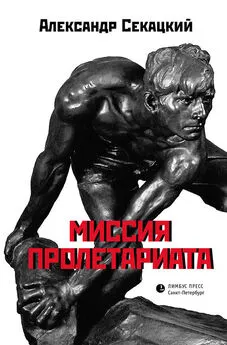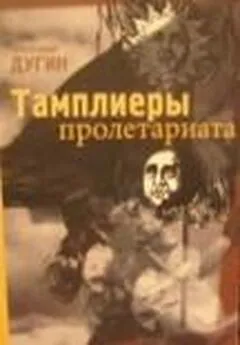Александр Секацкий - Миссия пролетариата
- Название:Миссия пролетариата
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство К.Тублина («Лимбус Пресс»)a95f7158-2489-102b-9d2a-1f07c3bd69d8
- Год:2016
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-8370-0714-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Секацкий - Миссия пролетариата краткое содержание
В новой книге Александра Секацкого «Миссия пролетариата» представлена краткая версия обновленного марксизма, которая, как выясняется, неплохо работает и сегодня. Материалистическое понимание истории не утратило своей притягательности и эвристической силы, если под ним иметь в виду осуществленную полноту человеческого бытия в противовес голой теории, сколь бы изощренной она ни была. Автор объясняет, почему исторически восходящие силы рано или поздно теряют свой позитивный обновляющий настрой и становятся господствующим классом, а также почему революция – это коллективная нирвана пролетариата.
Яркая и парадоксальная, эта книга адресована не только специалистам, но и всем заинтересованным читателям.
Миссия пролетариата - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Однако притягательность пролетарской эпимелеи, даже осмеянной, обманутой функционерами социопланктона, действует и сегодня, сказываясь в возобновляемом выборе честных интеллектуалов. Андре Мальро в бригадах республиканской Испании, Сартр, пришедший в ряды компартии и готовый к баррикадным боям, многие тысячи других, вполне успешных и благополучных членов общества – ясно, что привлечены они были новыми ростками общественной жизни, теми, которые, казалось бы, были безнадежно вытоптаны. Представим себе какую-нибудь архетипическую ситуацию Парижа 1968 года.
– Товарищ Клара, вы подготовили митинг текстильщиков?
– Да.
– Вы зачитаете наши призывы, а возглавят шествие Симона и товарищ Пьер.
– Я тоже могу пойти во главе колонны!
– Нет, товарищ Клара, вы нужны партии на своем месте.
И так оно и случилось. Товарищ Симона и товарищ
Пьер возглавили колонну, призывая рабочих не бояться жандармов и не поддаваться на провокации. Они вступили в расширенную чувственность агоры и полиса, совершая ответственные, понятные и им самим, и их товарищам поступки. А затем они отправились пить вино и закончили день в объятиях друг друга. И все это не слиплось в манную кашу единственно достоверной приватности: каждый поступок, каждое деяние смогли удержать собственную топику. Ничего подобного не может предложить ни «реальная политика», пропитанная лицемерием и ничтожностью эгоистичных целей, ни флирт, намертво запертый в круге «экономии либидо». То, что смог предложить пролетарский праксис, оставалось эксклюзивным в спектре бытия в признанности последних двух столетий. И это всегда притягивало – обаяние целостного праксиса с его высокой серьезностью, остро конфликтующей с формами выморочного, погрязшего либо в цинизме, либо в сюсюканьи существования.
Ханна Арендт в ее апологии и одновременно эпитафии высокой публичности пишет: «Коренная ошибка всех попыток материалистического понимания политической сферы… заключается в том, что вне поля зрения остается присущий всякому слову фактор раскрытия личности, а именно то простое обстоятельство, что даже преследуя свои интересы и имея перед глазами определенные цели в мире, люди просто не могут не высказать себя в своей личной уникальности и не внести ее среди прочего в игру. Исключение этого, так называемого субъективного фактора означало бы превращение людей в нечто такое, что они не есть» [93].
В действительности здесь ошибается сама Ханна Арендт. В самом деле, всякое самораскрытие в акте речи и поступка, простое бытие от первого лица, уже конституирует мир, в котором есть кто, и, стало быть, такое самораскрытие является продолжением творения, его второй стадией. Если мир был сотворен из ничего и обрел что, то все же в нем не было еще никого, и вот теперь в публичном деянии в мир входит кто. Никаким иным образом субъект не может ответить на вопрос «кто?», кроме как выдвинувшись в середину мира, то есть говоря во всеуслышание и поступая как истинный суверен бытия. Однако эта простота и естественность присутствующего, отвечающего на вопрос «кто?», вовсе не дает нам спокойствия наличного бытия. Слова становятся лукавыми, а вслед за ними столь же лукавыми становятся и поступки, в итоге и слова и деяния не обеспечивают никакого самораскрытия. Деяния становятся «делишками», в лучшем случае «поведением», а слова – сверхпроводниками лжи или в лучшем случае болтовней [94]. Все это исчерпывающе описано Марксом и другими марксистами как универсальная ситуация идеологии: идеология, оккупируя пространство политического, например полис, приводит к тому, что индивидуальная честность и открытость становятся случайной флуктуацией, не меняющей общий облик картины. Сама же Арендт несколькими страницами ниже справедливо пишет: «С реализованной властью мы имеем дело всякий раз тогда, когда слова и дела выступают неразрывно сплетенным друг с другом, где речи, стало быть, не пусты и деяния не превращаются в немое насилие, где слова не применяются для сокрытия намерений, но произносятся для раскрытия реалий, где словами не злоупотребляют в целях сокрытия намерений, а говорят их, чтобы раскрыть действительность, и деяниями не злоупотребляют в целях насилия и разрушения, но учреждают и упрочивают ими новые связи, создавая тем самым новые реальности» [95].
Ханна Арендт ненароком указала на важнейший дефицит современного бытия – это речи, которые произносят не для того, чтобы сокрыть намерения, а для того, чтобы раскрыть действительность. Вслед за Заратустрой хочется воскликнуть: «Припомните, когда в последний раз вы слышали такие слова? Разве что от дедов вы слышали о таких словах, о таких речах, но, конечно же, не сами речи…»
В том-то и дело, что поступки как орудия производства не участвуют в производстве современной социальности и соответственно их негде экспроприировать. Социопланктон не воспроизводит ценностей, достойных перераспределения или вообще удержания, работа негативности, совершаемая в данном случае историей, порождает лишь одну видимую часть сопротивления, а именно линию отвращения. Соответственно только позиция внеположности способна конденсировать новую социальную силу и нового субъекта истории. Лишь тот, кто, морщась от отвращения, отвергает все отравленные ценности мелкобуржуазной эпохи, а не надеется экспроприировать их, лишь тот сможет подхватить валяющееся в пыли и поругании переходящее знамя пролетариата. Особая трудность новых пролетариев состоит в отсутствии обозримого поля солидарности, поля подобного полису или фабрике – пребывание в офисе или в любой другой совместности социопланктона не дает созреть гроздьям гнева, только выталкивание и добровольный эскапизм создают тень негативной солидарности.
И тем не менее одинокие эскаписты порождаются самим производством. Это новые надомники, сидящие за персональными компьютерами. Это пожизненно безработные, которые не в состоянии ужиться с социопланктоном ни в каких формах, все те, кто смог вырваться из среды захватившей власть мелкой буржуазии, из среды, где Dasein уже не пребывает в заброшенности, а, что гораздо хуже, перевоспитывается с утратой диверсионно-подрывной миссии, но с сохранением всей одомашненной шпионской атрибутики.
Беспросветная мелкобуржуазность опустилась на современное общество, как завеса, тотально загрязнив человеческую среду, как внешнюю, так и внутреннюю, включая отношения по поводу производства и вообще по поводу вещей – экономику, политику, эстетику. Все эти сферы репрезентации скроены сегодня именно по мерке маленького человека, соответственно в производстве доминирует интрига, в политике – политкорректность, в сфере массового вкуса – гламур. Ни то, ни другое, ни третье для восходящего и способного к преобразованиям класса неприемлемо. И новый формирующийся пролетариат будет опознаваться по этим трем «анти». Или в позитивной формулировке: новая сверхзадача в экономике, прямодушие без камуфляжа в политике, равнодушие к воплям в эстетике.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: