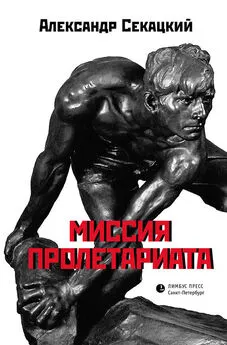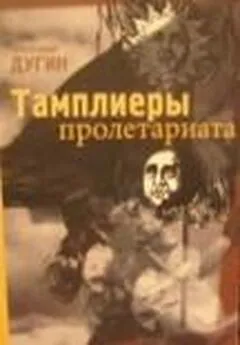Александр Секацкий - Миссия пролетариата
- Название:Миссия пролетариата
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство К.Тублина («Лимбус Пресс»)a95f7158-2489-102b-9d2a-1f07c3bd69d8
- Год:2016
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-8370-0714-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Александр Секацкий - Миссия пролетариата краткое содержание
В новой книге Александра Секацкого «Миссия пролетариата» представлена краткая версия обновленного марксизма, которая, как выясняется, неплохо работает и сегодня. Материалистическое понимание истории не утратило своей притягательности и эвристической силы, если под ним иметь в виду осуществленную полноту человеческого бытия в противовес голой теории, сколь бы изощренной она ни была. Автор объясняет, почему исторически восходящие силы рано или поздно теряют свой позитивный обновляющий настрой и становятся господствующим классом, а также почему революция – это коллективная нирвана пролетариата.
Яркая и парадоксальная, эта книга адресована не только специалистам, но и всем заинтересованным читателям.
Миссия пролетариата - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Прежде чем ответить на сформулированный выше вопрос, следует рассмотреть тему «Труд и отчуждение» и с другой стороны. Прежде всего необходимо отметить, что только отчужденный труд как стержень экзистенциального отчуждения мог породить пролетариат в его важнейшей исторической ипостаси: эту своеобразную заслугу капитализма не отрицали ни Маркс, ни другие критики системы. «Классы вообще являются единым негативом каст и рангов, классы – это раскодированные касты и ранги» [96]. Действительно, появление буржуазии и пролетариата можно рассматривать как рождение пары «частица – античастица». Новая раскадровка социальности смывает границы прежних ячеек – профессиональных, возрастных, национальных, так что частица и античастица возникают одновременно, как полярности единого поля. Авторы «Анти-Эдипа», акцентируя один из полюсов, пишут: «Дело не в том, что человек никогда раньше не был рабом технической машины, дело в том, что, как раб общественной машины, буржуазия подает пример, она поглощает прибавочную стоимость в целях, которые в общей системе не имеют никакого отношения к наслаждению, – больший раб, чем последний из рабов, первый слуга ненасытной машины, скотина для воспроизводства капитала, интериоризация бесконечного долга. ‘Да, я тоже раб” – вот новые слова господина. Капиталист уважаем лишь настолько, насколько он является персонифицированным человеком-капиталом» [97].
Таков полюс капитала, собирающий имманентность присутствия благодаря конвертированию разнородного в деньги, но не как средство для обмена на новые разнородности (удовольствия в широком смысле), а как капитал, самовозрастающая стоимость. Призрачность устремлена к высшей точке персонификации, где и находится человек-капитал. Совершенно очевидно, что для субъекта, или со стороны субъекта, вхождение в такую персонификацию означает тотальное отчуждение.
Однако подлинно универсальное отчуждение (в форме всеобщего) возникает лишь на противоположном полюсе, где синтезируется античастица – пролетариат. Там капиталу противостоит свободная, несвязанная рабочая сила, ее атрибутом является глобальная неукорененность, выдернутость всех корней. Эта негативная имманентность привлекает другой призрак – призрак коммунизма. Но если призрак капитала только порабощает и подчиняет, будь то в форме персонификации (одержимость) или же в классической форме эксплуатации, то призрак коммунизма есть подлинно голодный дух: он вселяется в индивида. Он не создает и не признает персонификаций, но осуществляет сборку нового социального тела, духом которого он может стать. Надо ли говорить, как тянется к нему коллективное тело пролетариата, связанное классовой солидарностью?
Только через тотальность отчуждения, через выдернутость из ячеек социальной матрицы и может возникнуть пустота, пригодная для нового одухотворения, посредством которого пролетариат способен реализовать свою миссию. Конечно же, разобщенность с сущностными силами человека, возникающая в результате и в процессе отчуждения, ни в каком позитивном (и тем более позитивистском) смысле не может быть названа преимуществом. Но, как говорил Ленин, прежде чем объединяться, нам нужно решительно размежеваться. Только лишившись всех оболочек ветхого Адама, оказавшись в «абсолютной разорванности» (Гегель), пролетариат, собственно, становится самим собой. Его историческая миссия как раз и актуализуется в тот момент, когда воочию обнаруживается полюс отталкивания, стартовая площадка, на которой уже нечего терять и, что не менее важно, ничего не вернуть – не вернуть утерянной кастовой принадлежности, принадлежности к традиционной семье и так далее.
Поэтому преодоление лишенности с неизбежностью становится траекторией социального творчества. У пролетарской миссии, как и у самой идеи коммунизма, нет телеологии (в этом принципиальное отличие от утопического социализма). У Маркса все время речь идет о критике существующего, знаменитая формула гласит: коммунизм это не идеал, а действительное движение, которое должно уничтожить теперешнее состояние. Эта формула верна и по сей день, она будет верна всегда, когда момент «теперь» примет форму устойчивого состояния.
Итак, через отчуждение надо пройти, как в завершающей фазе творения Господь проходит через кенозис. У Гегеля, у которого марксизм и заимствовал сам термин «Entfremdung», палитра отчуждения чрезвычайно широка. Всякое инобытие идеи, и даже собственно «природа», представляет собой или включает в себя ту или иную форму отчуждения, между в себе бытием и бытием для себя момент отчуждения присутствует с неизбежностью, и сфера опредмеченности духа означает вовсе не его падение или пленение материей, как склонны были считать гностики, но, напротив, его волю к власти, а также и некоторый риск, опирающийся в случае наличия субъекта на субъективную решимость. Отчуждение имманентного бытия в простой положенности, в наличной вещи, не есть потеря себя – это экспансия, война, где победа не гарантирована, но и поражение отнюдь не предрешено. В своем высшем смысле отчуждение предстает как распахнутость в мир, как воплощение, объективация желания и воли. Выше его в иерархии экзистенциальных ценностей стоит встреча с другим, но и эта встреча в своей полноте, в своей устойчивости опосредована объективациями.
Любовь, если вычесть из нее дружество, окажется всего лишь затянувшимся истерическим припадком, но и само дружество без вещественного элемента, без отчуждаемых благ тоже всего лишь декларация. В конце концов присущая человеку свобода воли есть Божий дар в самом точном смысле слова, прямой результат отчуждения Бога от самой имманентной процессуальности. Так что само по себе отчуждение есть не только суровая необходимость считаться с вещами, с овеществленностью и материальностью мира, но это еще и мера величия духа. Буржуазная персонология, панически боящаяся отчуждения, уходит от него с помощью спиритуалистической экзальтации, характерный образец которой представлен, например, у Мартина Бубера. Пролетариат не боится отчуждения, он его преодолевает. Скажем так: цель пролетариата – упразднить прибавочное отчуждение подобно тому, как экспроприируется прибавочная стоимость у буржуазии. Советская марксистская школа (Ю. Н. Давыдов, Э. В. Ильенков, Г. С. Батищев, да и Мераб Мамардашвили) немало сил потратила на уясненение принципиальных различий между отчуждением и опредмечиванием, опредмечиванием и овеществлением, прибавляя сюда еще и «овнешнение». Затея была не совсем бессмысленной, но игра не стоила свеч: доля отчуждения есть и в самом благородном опредмечивании, ведь формой отчуждения является и то, что Генрих Батищев назвал «произведенствованием».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: