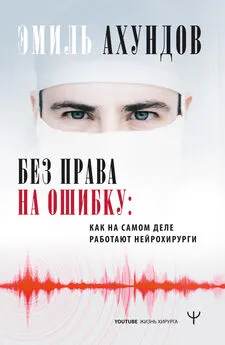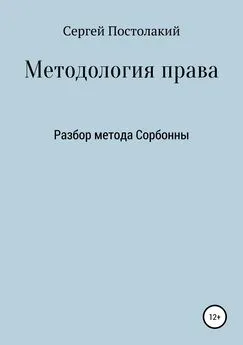Эмиль Дюркгейм - Правила социологического метода
- Название:Правила социологического метода
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-137831-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эмиль Дюркгейм - Правила социологического метода краткое содержание
Эта книга, впервые изданная еще в 1895 году, является манифестом ее автора по новой для того времени науке – социологии. «Правила социологического метода» и поныне остаются актуальными и обсуждаемыми.
Согласно Дюркгейму, социологи без предубеждений и предрассудков должны изучать социальные факты как реальные, объективные явления, применяя строго научный метод, используемый в естественных науках.
В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Правила социологического метода - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Чтобы определение было объективным, оно должно явно выражать явления как функцию – не как идеи, порождаемые умом, а на основании внутренне присущих им свойств. Оно должно характеризовать явления через составные элементы их природы, а не по соответствию более или менее идеальным понятиям. Когда исследование только начинается и факты еще не подверглись анализу, возможно выявить только те их признаки, которые являются достаточно внешними для того, чтобы быть непосредственно видимыми. Несомненно, признаки, скрытые глубже, более существенны. Их объяснительная ценность выше, но они остаются неизвестными на этой стадии научного познания и могут предварительно оцениваться лишь на основании подмены реальности какими-либо умозрительными концепциями. Потому именно среди первых признаков мы вынуждены искать элементы нашего основного определения. С другой стороны, ясно, что это определение должно содержать в себе без исключения и различия все явления, обладающие теми же признаками, поскольку у нас нет поводов и средств выбора между ними. Эти свойства тогда – все известное нам о реальности; поэтому они должны абсолютно определять порядок группировки фактов. Мы лишены иных критериев, способных хотя бы отчасти ограничивать действие этого правила. Тем самым формулируется следующее правило: предметом исследования должна быть группа явлений, определенных предварительно некоторыми общими для них внешними признаками; сюда включаются все явления, отвечающие данному определению . Например, мы отмечаем существование каких-то действий, обладающих тем внешним признаком, что их совершение вызывает со стороны общества особую реакцию, именуемую наказанием. Мы составляем из них группу sui generis и помещаем эти явления в общую категорию: всякое наказуемое действие называется преступлением, а само преступление, определяемое таким образом, становится предметом отдельной науки – криминологии. Точно так же мы отмечаем внутри всех известных обществ наличие малых общин, опознаваемых по тому внешнему признаку, что они образованы в основном людьми, которые связаны между собой кровным родством и некими юридическими узами. Из фактов, сюда относящихся, мы составляем особую группу и называем ее особым именем; это – явления семейной жизни. Мы называем семьей всякий агрегат подобного рода и делаем семью предметом специального исследования, не получившего еще конкретного обозначения в социологической терминологии. Переходя затем от семьи вообще к различным семейным типам, надо применять то же правило. Приступая, например, к изучению клана, материнской или патриархальной семьи, нужно начинать с определения этих явлений по тому же самому методу. Предмет в каждом случае, общем или частном, должен быть установлен согласно тому же принципу.
Действуя таким образом, социолог с первого шага оказывается твердо стоящим на ногах в реальности. Действительно, способ классификации фактов зависит уже не от него, не от особого склада ума ученого, а от природы объектов. Критерий, определяющий отнесение фактов к той или иной категории, может быть предъявлен всем и признан всеми, а утверждения наблюдателя могут быть проверены другими. Правда, понятие, составленное этим способом, не всегда совпадает (даже обыкновенно не совпадает) с обыденными понятиями. Например, очевидно, что факты свободомыслия или нарушений этикета, столь неуклонно и строго наказываемые во многих обществах, с распространенной точки зрения не считаются преступлениями даже по отношению к этим обществам. Точно так же клан не является семьей в обыкновенном значении слова. Но это не имеет значения, так как вопрос не в том, чтобы установить с достаточной надежностью факты, к которым применяются слова обыденного языка и идеи, ими выражаемые. Нужно создавать понятия de novo [39] Заново ( лат .). – Примеч. ред .
, приспособленные к потребностям науки и выражаемые при помощи специальной терминологии. Это не значит, конечно, что обыденные понятия бесполезны для ученого. Они служат своего рода вехами, указывают на то, что где-то существует группа явлений, объединенных одним и тем же названием и, следовательно, имеющих, по всей вероятности, общие свойства. Кроме того, раз обыденное понятие всегда в какой-то мере связано с явлениями, то иной раз оно указывает приблизительное направление поиска этих явлений. Но поскольку оно составляется лишь вчерне, вполне естественно, что оно не вполне совпадает с научным понятием, созданным при его посредстве [40] На практике всегда отправной точкой оказываются обыденные понятия и обыденные названия. Среди всего того, что обозначает данный термин, мы норовим выяснить, существует ли что-то такое, что обладает обыденными внешними признаками. Если это что-то находится и если понятие, образованное посредством группировки фактов, совпадает, пусть не целиком (что бывает редко), но хотя бы по большей части, с обыденным понятием, то возможно и далее обозначать первое тем же привычным обыденным определением, сохранив в науке расхожее разговорное выражение. Но если различие слишком уж заметно, если обыденное понятие имеет избыток значений, то создание нового, специального термина становится необходимостью.
.
При всей очевидности и важности этого правила оно в настоящее время почти не соблюдается в социологии. Именно потому, что социология имеет дело с явлениями, которые обсуждаются постоянно, к примеру, семья, собственность, преступление и т. д., очень часто социологу кажется бесполезным предварительно и строго определять эти явления. Мы настолько привыкли употреблять эти слова, исправно звучащие в повседневных разговорах, что нам кажется напрасным выяснять тот смысл, в котором мы их употребляем. Мы просто ссылаемся на общепринятые понятия, но последние нередко крайне многозначны. Эта многозначность заставляет нас группировать под тем же именем и с тем же объяснением явления, в действительности принципиально различные. Отсюда возникает неисправимая путаница. Так, существует два вида моногамных союзов – фактические и союзы юридического характера. Во-первых, у мужа всего одна жена, хотя юридически он может иметь несколько жен; во-вторых, полигамия запрещена законодательно. Фактическая моногамия встречается у нескольких видов животных и в некоторых низших обществах, причем не спорадически, а столь же часто, как если бы она предписывалась законом. Когда племя рассеяно по обширному пространству, общественные связи ослаблены, и потому люди живут изолированно друг от друга. Тогда каждый мужчина, естественно, ищет себе жену, но только одну, потому что в этом состоянии разобщения ему трудно завести несколько жен. Обязательная же моногамия наблюдается, наоборот, лишь в наиболее развитых обществах. Эти два вида супружеских союзов имеют, следовательно, совершенно разное значение, хотя обозначаются они одним и тем же словом. Можно услышать, что отдельные животные моногамны, пусть в этом случае нет и намека на юридические обязательства. Спенсер, приступая к исследованию брака, употребляет слово «моногамия», не определяя его содержания, то есть использует его в обыкновенном, двусмысленном значении. Потому-то эволюция брака кажется ему содержащей необъяснимую аномалию, ведь он думает, что высшая форма полового союза наблюдается с ранней стадии исторического развития, а она между тем явно на время исчезает и затем появляется снова. Из этого он делает вывод, что нет прямого и устойчивого соотношения между социальным прогрессом как таковым и прогрессивным движением к идеальному типу семейной жизни. Надлежащее определение предупредило бы эту ошибку [41] То же отсутствие определения заставляет порой утверждать, что демократия свойственна как началу, так и концу истории. Истина же в том, что первобытная и нынешняя демократия сильно отличаются друг от друга.
.
Интервал:
Закладка:





![Эмиль Дюркгейм - Самоубийство [litres]](/books/1058201/emil-dyurkgejm-samoubijstvo-litres.webp)