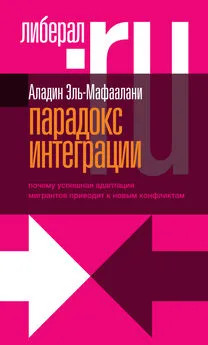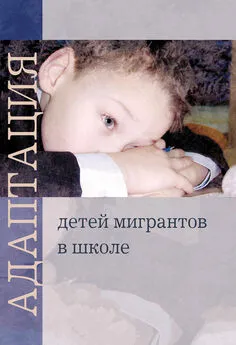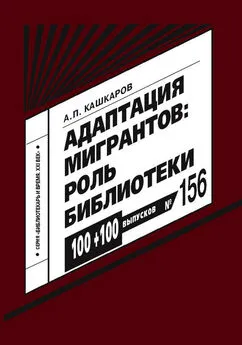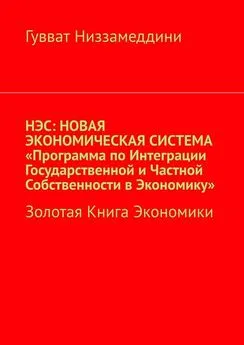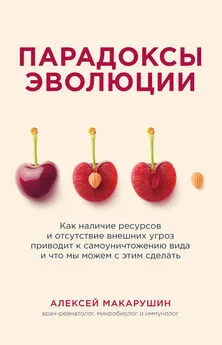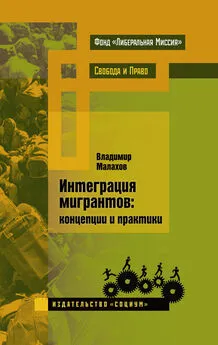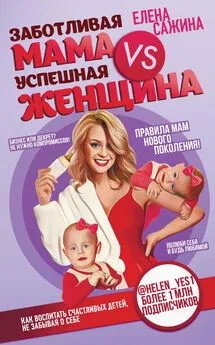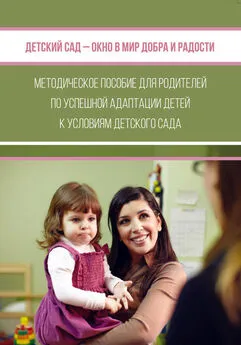Аладин Эль-Мафаалани - Парадокс интеграции. Почему успешная адаптация мигрантов приводит к новым конфликтам
- Название:Парадокс интеграции. Почему успешная адаптация мигрантов приводит к новым конфликтам
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:9785444813621
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Аладин Эль-Мафаалани - Парадокс интеграции. Почему успешная адаптация мигрантов приводит к новым конфликтам краткое содержание
Парадокс интеграции. Почему успешная адаптация мигрантов приводит к новым конфликтам - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Здесь следует остановиться на проблеме конфликта ожиданий, решение которой со временем, возможно, станет наиболее трудной задачей. Эта проблема носит структурный характер. В то время как часть коренного населения надеется, что интегрированные приспособятся и незаметно растворятся в общей массе, очень многие из таких постэмигрантов ждут от интеграции другого, а именно они хотят быть признанными, оставаясь носителями языкового и религиозного многообразия, хотят признания ценности их многослойной идентичности. Но ни одна из сторон не желает идти навстречу ожиданиям другой, учитывать такой важный фактор, как время. В результате возникают четыре серьезные проблемы.
Прежде всего, интеграция не означает, что люди освобождаются от своего вероисповедания, родного языка и происхождения, как от старого костюма, надев поверх него новый. Нет, тут следует говорить скорее не о новой, а о второй коже. К тому же нередко первая – форма глаз, структура волос, имя, а также жизненный опыт, вызовы, на которые приходилось отвечать, – мешают человеку незаметно раствориться в общей массе, «выдают» его. Ваш покорный слуга, автор этой книги, Аладин Мафаалани хорошо знает, о чем говорит.
Второе: «интеграция – не улица с односторонним движением» – эту верную мысль высказал немецкий историк Клаус Баде еще четверть века назад. Интеграция частей в целое меняет и целое. Потому что целое – не просто сумма частей (это было известно уже Аристотелю), а динамическое их взаимодействие, в результате чего они меняются сами и меняют других. Этот процесс непрерывен уже потому, что каждое новое поколение должно интегрироваться в общество, которое тоже благодаря этому меняется. В результате миграции, то есть появления новых людей, рождающих новые поколения, решительно изменяются формы, скорость и масштабы этого процесса.
Третье: думать, что открытые общества по сути (per se) признают и ценят все изменения, – заблуждение. Они открыты, но не для всех и не полностью, они никому не мешают вести дискуссию, но она при этом должна вестись. Неполное признание некоторых групп – это, возможно, следствие закрытости общества в прошлом, но фатализму и разочарованию здесь не место, наоборот, неполное признание должно подстегивать людей к большей активности. Открытое общество – это не рай, в котором уже есть все и для всех. Оно предлагает открытое пространство, где можно проявлять себя в самых разных плоскостях, при этом никто не обязан вообще как-то проявлять себя. Можно просто усесться за общий стол, есть вместе со всеми, участвовать в дискуссиях. И надо постоянно иметь в виду, что сегодня признание языкового и религиозного многообразия – реальность, особенно в сравнении с прошлым. Доступ к столу никогда не был таким открытым, как сегодня.
Четвертое: существуют, тем не менее, границы возможного. Они всегда исторически обоснованны, при этом речь здесь не идет о высеченном на камне законе. Представления, правовые нормы – за всем этим долгая история, и их трудно изменить сразу. То же и с культурой, идентичностью, принадлежностью к какой-либо группе. Здесь ведь тоже речь идет о второй коже (сравнение, к которому я прибегал выше). Например, правовые нормы для разных религий вводились здесь, так сказать, в рамках истории христианства, и это затрудняет признание других религиозных сообществ. К тому же во многих западных странах роль церкви снижается, набожности у христиан становится все меньше. Но если говорить о мире в целом, протекает все более заметный противоположный процесс. Религия, религиозность и набожность по-прежнему глобально играют очень большую роль, в том числе и для многих мигрантов. Разнонаправленность этих процессов может порождать напряженность – это совершенно очевидно. Главное здесь не проявлять нетерпения.
Перечисленные выше проблемы хорошо иллюстрируют примеры из недавнего прошлого. В 1980-е годы в Германии мало что знали о баклажанах и не было продленки, где школьники могли бы оставаться до вечера, поэтому я уходил из школы обычно в 13:15. Навстречу мне к школе тянулись женщины в платках. Тогда это казалось нормальным, на них не обращали внимания. Конечно, они были плохо интегрированны, почти не говорили по-немецки, у них не было немецкого гражданства. Но никто не видел ничего предосудительного в том, что женщины, которым приходилось выполнять тяжелую работу, эти «уборщицы», работницы на фабриках, не расстаются с платками. Но когда такие женщины в платках появились среди студенток, среди учительниц, это вызвало раздражение. То есть платок на голове стал проблемой только в условиях удачной интеграции, только когда женщина в платке впервые села за общий стол или попыталась это сделать. Показательно, что почти во всех федеративных землях Западной Германии действовали или продолжают действовать запреты и ограничения для учительниц на ношение платка в школе, но ни в одной федеративной земле в восточной части (за исключением Берлина) таких запретов нет, потому что интеграционные процессы там еще в зачаточном состоянии.
И конечно, не надо думать, что проблема с головными платками – результат террористических атак 11 сентября 2001 года. Вот простой пример: в 1990-е годы, задолго до этой трагедии, молодую учительницу немецкого языка Ферешту Лудин уволили из школы за ношение платка. Она выросла в Германии, говорила по-немецки без акцента, у нее было немецкое гражданство, и она с высокой оценкой сдала немецкий государственный экзамен. Ни с какими террористическими атаками тогдашние претензии к ней связаны не были.
Можно сколько угодно твердить, что этому религиозному символу нет места в школе, поскольку учительницы в платке имеют дело с несовершеннолетними. Но не надо забывать, что в те же 1990-е в государственных школах вели занятия монахини, а ведь они облачены в одежды, отвечающие тому или иному католическому ордену. В их случае это не было проблемой. Интересно, что после истории с платком и у монахинь возникли проблемы с их внешним видом. Правовые нормы и судебные решения по поводу религиозной символики принимались самые разные, и все это довольно быстро меняется. Причем в данном случае дело не исключительно в правовых вопросах, а скорее в столь же быстро меняющейся обстановке на общественном конфликтном поле.
То, что мусульманка воспринимает запрет, связанный с религиозным атрибутом, как несправедливость, понять можно. Но тогда надо признать и то, что мы имеем дело со сравнительно новым общественным дискурсом, и тут необходимо время. И в открытом обществе можно стоять на том, что платок и другие религиозные символы несовместимы с государственной службой. Да, такое решение можно принять. Но оно потянет за собой целый хвост разных проблем, так что на этом надо коротко остановиться.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: