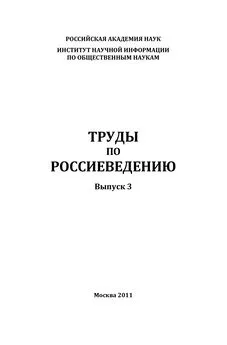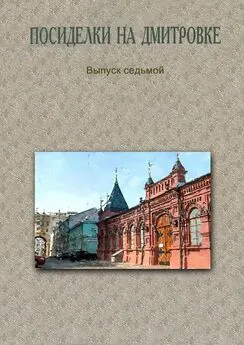Коллектив авторов - Труды по россиеведению. Выпуск 3
- Название:Труды по россиеведению. Выпуск 3
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-248-00640-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Труды по россиеведению. Выпуск 3 краткое содержание
Для специалистов-обществоведов и гуманитариев, аспирантов и студентов.
Труды по россиеведению. Выпуск 3 - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В этом году исполняется 170 лет со дня рождения и 100 лет со дня смерти В.О. Ключевского. То, что он – великий русский историк, знают все. А вот то, что это совершенно неповторимое порождение русской культуры середины и конца XIX в., – об этом мы как-то не думаем. Теперь уже ясно, что русская литература создала ту Россию, в которой мы живем. Именно писатели придумали основные русские типы, сформулировали основные русские вопросы, «сконструировали» основополагающие русские мифы (в основе всех мировых культур лежат жизнеобразующие мифы). Но литература, даже обращаясь к прошлому, всегда творит настоящее и будущее. К примеру, Тарас Бульба и его сыновья важны нам не как персонажи малороссийско-польской вражды XVII столетия, а как определенные социопсихологические типы, с которыми мы сталкиваемся в повседневности и одновременно через них понимаем других.
Но было два писателя, которые, как представляется, глубже и тоньше других и, самое главное, с безграничной теплотой показали нам сущность русского, собственно русское. Это Василий Ключевский и Василий Розанов. То, что сделал Розанов в области социокультурной и психологической, литературной и эстетической, то Ключевский – в исторической сфере. Русская история была «написана» до него; ее основные темы и направления определили Карамзин и Соловьев, Чаадаев, славянофилы и западники. И в этом смысле Ключевский не привнес ничего совершенно нового, хотя ему и принадлежал ряд выдающихся исследований, много давших нашей науке. Однако главное значение Ключевского состоит в том, что он обратился к историческим сюжетам и персонажам с позиций приватного человека. Не мифотворца, не схемостройца, не государственника и даже не общественника. Он берет события и персонажи и оживотворяет, и одуховляет их. Он делает наше прошлое не чередой фактов, эпох, героев, но живой жизнью. Причем Ключевский – как-будто вышедший из лесковского мира, – смотрит на русскую историю глазами и душой человека допетровской России. Да, он чрезвычайно умен и отлично обучен европейскому профессиональному знанию. Да, он современен, но и все равно по сути своей остается человеком XVII столетия. Вот это уникальное сочетание и позволило ему прочесть русскую историю как родную. И даже его увлечение всякими социоэкономическими объяснениями попахивает чем-то замоскворецко-посконным, а не европейско-политэкономическим.
Он как будто знал, что вот-вот этот, его русский исторический мир уйдет в небытие. Впрочем, может, и знал; ведь утверждал же, что «это царствование последнее» и Алексей править не будет, а на важнейшем, стратегическом Петергофском совещании высших правящих лиц (лето 1905 года) вел себя пассивно, незаинтересованно и отделался незначительными словами. Может быть, действительно, чувствовал, что конец. И как раз перед концом этого мира он и создал русскую историческую вселенную и с этого момента русская история, по Ключевскому (или клю-чевская русская история), занимает в нашем сознании место рядом с литературой. То есть это еще один русский мир. Нет сомнений в том, что работа Ключевского не менее важна и значима, чем работа Пушкина, Достоевского, Толстого.
Влияние Ключевского на русскую культуру шире даже, чем то, о котором мы только что сказали. ХХ век, несмотря на все его ужасы, стал одновременно поразительным взлетом русского гения. Сегодня можно прямо сказать: культура ХХ в. не потеряла темпа, который был набран в XIX. И одним из самых ярких проявлений этого взлета стала поэзия. Берем на себя смелость утверждать, что творчество двух московских поэтов, имеющее мировой масштаб, – Пастернака и Цветаевой – было бы невозможно без того мира русской истории, который создал Ключевский. Разумеется, это не единственный источник их творчества, но абсолютно необходимый среди других.
Сегодня история, по Ключевскому, нужна прежде всего не как источник профессиональных знаний, но как воздух, которым должны дышать легкие нашей культуры. Это особенно важно потому, что вот уже почти столетие мы дышим воздухом отравленным. Во-первых, Ключевский дает сегодняшнему человеку безусловное и понятное ощущение живой причастности к русскому делу. Человек, принявший в свою душу Ключевского, навсегда проникнется русской исторической существенностью. Во-вторых, чтение Ключевского – это сильнейшее гигиеническое средство от современных социальных болезней.
И вновь возвращаемся к теме реформ (и свободы). Еще один важный аспект в их понимании: не все то, что делается по переустройству общества, можно квалифицировать как реформы. Реформой, видимо, следует считать такие действия, которые заключаются в решении вопросов, стоящих перед обществом, на путях расширения зоны свободы прежде всего индивидуальной, – и, соответственно, личной ответственности. При таком подходе деяния Петра Великого, к примеру, не подпадают под эту характеристику. Все те громадные новации, которые внес в русскую жизнь этот человек, имели своим главным результатом дальнейшее закабаление населения России. И даже если признать за Петром – а мы признаем – заслугу в деле русского просвещения, то и это не отменяет главного результата его действий. Более того, трагическое несоответствие просвещения и крепостничества и стало основным взрывным элементом русской революции и гражданской войны. Причем социальная опасность одновременности просвещения и закрепощения не была преодолена даже Великими реформами.
Реформа – это всегда конфликт; повторим: настоящая реформа не уничтожает его. Но создает легитимные и эффективные процедуры протекания. Реформа – это политика осознанного принятия социальной конфликтности как фундамента для нормального, здорового развития общества. Реформа – это отказ от единственной и тотальной идеологии; отказ от принципа «кто не с нами – тот против нас»; отказ от понимания другого/иного как врага. Реформа – это то, что сегодня американский политолог Джозеф Най называет «soft power». В своей последней книге (14) Най говорит, что смысл soft power в том, что в ходе ее применения увеличивается количество друзей и уменьшается количество врагов. «Hard power» действует наоборот. Реформы – это также то, что Най квалифицирует как «smart power». Смысл этого последнего заключается в том, что настоящий реформатор всегда принимает во внимание позиции в обществе различных социально ответственных сил, включая и противостоящие ему, способствует их усилению.
Одним из заблуждений русского сознания является уверенность в том, что реформы может проводить власть и только власть. Нет, опыт последних 100 лет показывает: реформирование практически всегда есть дело рук и власти, и общества. Там, где общества нет – в том смысле, что оно еще не готово взять на себя часть бремени социальной ответственности, – реформы, даже блестяще задуманные и продуманные, не удаются. Пример: Михаил Сперанский. Его гениальный проект преобразований оказался не по плечу тогдашней России. И Александр I мгновенно и безболезненно свернул робкие начинания и громкие обещания. Оказалось, что Сперанский предложил России план «на вырост». А когда русское общество подросло, тогда оно в тесном союзе с властью и одновременно в жестком противостоянии с ней реализовало план Михаила Михайловича.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: