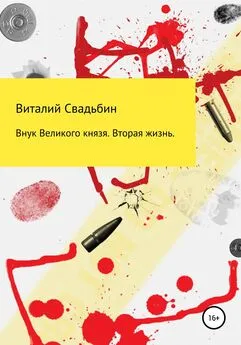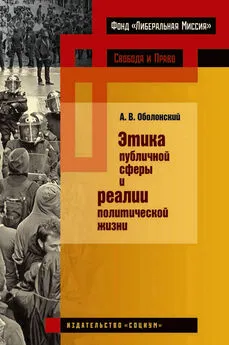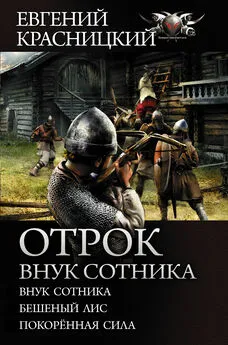Эдмунд Внук-Липиньский - Социология публичной жизни
- Название:Социология публичной жизни
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2020
- Город:Москва, Челябинск
- ISBN:978-5-91603-593-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Эдмунд Внук-Липиньский - Социология публичной жизни краткое содержание
Социология публичной жизни - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Последняя глава посвящена проблематике патологий публичной жизни. Прежде всего, непосредственно самим патологическим явлениям (в частности, коррупции, а также организованной преступности), но помимо этого еще и причинам возникновения всевозможных патологий и их последствиям для качества демократии, гражданской культуры и для эффективности функционирования различных институтов публичной жизни.
Сфера охвата данного учебника наверняка не исчерпывает всей проблематики, которую следовало бы учесть при рассмотрении публичной жизни. Но можно надеяться, что представленные далее знания касаются того круга вопросов, который в первую очередь интересует граждан, желающих активно участвовать в публичной жизни.
Наряду с печальным опытом прошлого, а прежде всего ужасами XX века с его мировыми войнами, идеологическими безумствами и этническими чистками, которые могли бы склонять к пессимизму, существуют и основания для умеренного оптимизма. Errando discimus (ошибаясь, мы учимся). Можно предполагать, что эта древняя поговорка содержит в себе житейскую мудрость – однако при том условии, что об ошибках не забывают (по крайней мере, в следующем поколении), а память о прошлом сопровождается более глубоким – а не просто обыденным и поверхностным – познанием механизмов тех общественных явлений, которые происходят на наших глазах. Довольно распространенное в масштабах всего мира отступление от авторитаризма может быть интерпретировано как результат учебы на ошибках прошлого, а знания, почерпнутые из сокровищницы достижений общественных наук, могут трактоваться в качестве такого инструмента, благодаря которому мы становимся более устойчивыми к авторитарным искушениям и соблазнам, ибо лучше понимаем как ошибки, совершенные в прошлом, так и современные нам тенденции и явления, частью которых мы являемся. А лучшее понимание механизмов, управляющих публичной жизнью современных обществ, позволяет перейти к следующему шагу, а именно к рефлексии – на основании существующих к этому моменту знаний – над возможностями создания «дружелюбного государства» или же над направлениями таких изменений, которые могли бы в итоге привести к возникновению «дружелюбного общества» и к хорошей жизни в нем. А это в какой-то степени приближает нас к ви́дению Фрыча Моджевского, иначе говоря к многовековой мечте о собственном государстве, справедливом и эффективном, граждане которого имеют шанс «жить хорошо и счастливо, честно и благородно».
Глава 1
Теории радикального общественного изменения, демократические революции [11] Переводчик выражает благодарность д-ру полит. наук, директору Института политических исследований «Палiтычная сфэра», гл. редактору журнала на белорусском языке «Палiтычная сфэра» («Политическая сфера») А. Н. Казакевичу за помощь в редактировании текста данной и ряда других глав, а также за отдельные полезные замечания, высказанные при этом или в ходе дискуссий.
Введение
То обстоятельство, что учебник, посвященный социологии публичной жизни, начинается с теории радикального общественного изменения, а также с описания волны демократических революций, которые на исходе минувшего столетия прокатились по значительной части планеты, имеет свое сущностное обоснование. Прежде всего, публичная жизнь в демократическом национальном государстве принципиально отличается от публичной жизни в недемократическом государстве. Различия настолько фундаментальны, что в данном случае мы можем говорить о двух качественно различных типах организации публичного пространства. Следовательно, рассмотрение публичной жизни должно быть отнесено к какому-либо одному из этих двух типов. Но в рамках демократических систем некоторые из демократий молоды, а наследие предыдущей, недемократической системы все еще продолжает там присутствовать не только в «институциональной памяти», но и в общественной ментальности, а это приводит к тому, что и публичная жизнь такого общества тоже имеет свою специфику, которую нельзя игнорировать. Значительную часть подобной специфики можно объяснить процессом перехода от недемократической системы к демократии. Указанный процесс наряду с определенными универсальными свойствами насыщен также такими чертами, которые носят сугубо местный, частный характер, будучи укорененными в традиции и истории конкретного народа. Универсальные признаки перехода к демократии поддаются теоретическому обобщению, но о специфически местных, локальных признаках это уже нельзя утверждать с уверенностью.
Переход к демократии характеризуется двумя процессами. Один можно назвать либерализацией, а второй – демократизацией. Несомненно, синхронное протекание этих процессов весьма повышает вероятность благополучного перехода к демократии. Однако их детальному разъяснению необходимо предпослать более широкую панораму демократических революций, свидетелями которых мы были в Европе и Латинской Америке, в Азии и Африке. Словом, имеет место глобальная тенденция, в рамках которой надлежит найти место и для переходов к демократии, наблюдавшихся в регионе Центральной и Восточной Европы. Таким образом, встает вопрос, можно ли эту глобальную тенденцию уложить в какие-то теоретические рамки и имеет ли она общую причину (либо причины).
Сколько-нибудь полному ответу на данный вопрос должно предшествовать введение в современные и классические теории демократии, а также рассмотрение основных аналитических понятий, позволяющих описать демократическую систему. Лишь на таком основании можно разумным, осмысленным способом описывать вышеуказанную глобальную тенденцию конверсии (преобразования) авторитарных режимов в демократические.
В свою очередь, описание демократического порядка вместе с функционирующими в нем правилами игры выглядит подвешенным в социальном вакууме, если ему не предпосланы размышления над природой закрытых и открытых обществ. Здесь мы будем ссылаться на Карла Поппера (Karl Popper) и его знаменитое исследование, посвященное родословной открытого общества [12] Имеется в виду его сочинение «The Open Society and Its Enemies», v. 1–2 («Открытое общество и его враги», т. 1–2, 1945), которое в 1992 году было переведено на русский язык (подробнее см. раздел «Библиография»). Далее в этой главе автор достаточно подробно рассматривает указанную работу.
.
Какая-то часть демократических систем появилась путем долговременной, затяжной эволюции. Однако большинство стало результатом кардинального общественного изменения. Такое максимально радикальное общественное изменение, в результате которого происходит полная замена старого строя новым, обычно называется революцией. Переходы к демократии, имевшие место в конце минувшего столетия, характеризовались именно такой радикальностью и исторически быстрой (а следовательно, неэволюционной) продолжительностью. Но это не были классические революции, к которым нас приучила история. С точки зрения классических теорий революции они характеризовались – в большинстве случаев – нетипичным протеканием. Их итогом стало появление молодых демократий, публичной жизни которых свойственны некоторые особенности. Дело в том, что для формы публичной жизни в подобных демократиях небезразличен не только путь, каким они шли (а таковых может быть по меньшей мере несколько), но также точка старта, иными словами природа той недемократической системы, от которой началось и далее происходило их продвижение к демократии. Поэтому необходимо разъяснить специфику демократических революций на фоне революций классических, а также представить актуальные теоретические переосмысления различных взглядов, относящихся к революции как явлению. Таким способом мы подошли к началу главы, которое вместе с тем представляет собой начало отмеченного выше увлекательного путешествия от порабощения к свободе огромных масс людей, особенно из стран бывшего советского блока.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
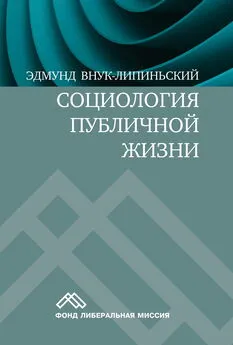




![Евгений Красницкий - Отрок. Внук сотника: Внук сотника. Бешеный лис. Покоренная сила [сборник]](/books/1084756/evgenij-krasnickij-otrok-vnuk-sotnika-vnuk-sotni.webp)
![Коллектив авторов - Все в прошлом [Теория и практика публичной истории]](/books/1142708/kollektiv-avtorov-vse-v-proshlom-teoriya-i-praktika.webp)