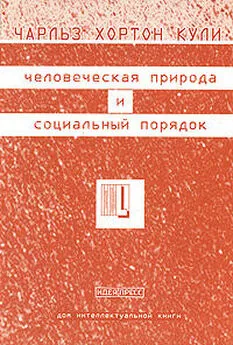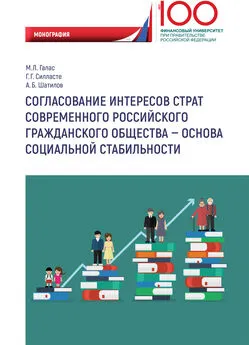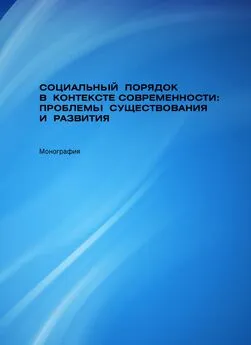Виктор Смирнов - Гражданственность и гражданское общество. Самоорганизация и социальный порядок
- Название:Гражданственность и гражданское общество. Самоорганизация и социальный порядок
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Array Литагент «Белорусская наука»
- Год:2013
- Город:Минск
- ISBN:978-985-08-1524-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Виктор Смирнов - Гражданственность и гражданское общество. Самоорганизация и социальный порядок краткое содержание
Рассчитана на научных работников, занимающихся проблемами социологии и политологии, служащих органов государственного управления и всех интересующихся проблемами самоорганизации и самоуправления в обществе.
Гражданственность и гражданское общество. Самоорганизация и социальный порядок - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
По мнению Макиавелли, гражданское общество представляет собой совокупность противостоящих друг другу интересов различных общественных групп. Соответственно и демократия в таком обществе невозможна, потому что демократия требует от народа единства, высокой нравственности, благородства и отваги в деле защиты отечества и демократического, республиканского строя. Как следствие, перемены политических систем объяснялись Макиавелли порчей нравов, а рецептом было их исправление. В этом смысле он в полном соответствии следовал за античными авторами и в первую очередь за Ливием, безусловным для него авторитетом.
Современное ему общество Макиавелли полагал развращенным, озабоченным стяжательством, разделенным корыстными интересами сограждан. Вследствие этого восстановить республиканскую форму правления в таком обществе нет никакой возможности, и тем более нет возможности ее защитить. Это общество не в состоянии самостоятельно ни противостоять гнету тиранов, ни даже самостоятельно защитить свое отечество от нападения извне. Такое общество, по мнению флорентийца, не может считаться гражданским, такому обществу необходим правитель. Но ввиду пассивности и безнравственности общества правителю для защиты государства приходится применять любые средства, в том числе и совершенно безнравственные. Ложь, обман, убийства, война – все это не просто дозволенные, но обязательные средства для сохранения государства, ибо, по мнению Макиавелли, государство само по себе является целью и интересы государства превалируют над любыми другими интересами.
Важность этого трактата также состоит и в том, что он впервые отразил появление автономной от общества власти, государства, обладающего особенными интересами, отличными от общественных, ибо только в этом случае можно говорить о приоритете государственных интересов.
Религиозной реакцией на потребительский имморализм Ренессанса становится аскетизм Реформации. Потребительство осуждается, как и любая роскошь, траты и излишества. В то же время труд, успешная профессиональная деятельность введены в ранг добродетели. Если католическая церковь признавала как слабость человека, так и возможность в нем и добра и зла, то Реформация объявила зло изначально присущим человеческой природе. Оно направляет его волю так, что ни один человек не способен совершить что-либо доброе исходя из собственной природы. «Одна из основных концепций всего мышления Лютера – это убеждение в природной греховности человека, его полной неспособности по собственной воле выбрать добро»
[78]. Именно здесь можно увидеть корни «естественного человека» Гоббса. И здесь же можно наблюдать первый европейский «Левиафан», коим стала теократическая Женева под управлением Кальвина.
Религиозная идеология Реформации отказывала человеку в способности какими-либо своими действиями обеспечить себе спасение. Это по силам только Богу. Никакие молитвы, благотворительность и иные «добрые дела» ни на сантиметр не в состоянии приблизить человека к Богу. Он не должен даже размышлять, угодны ли Господу его труды, он не может быть уверенным в своем спасении, даже если у него есть вера. Праведность Христова заменяет его собственную праведность, утраченную в грехопадении Адама. Но никогда в жизни человек не может стать вполне праведным, потому что его природная порочность никогда не исчезает окончательно. «В ходе исторического развития, – отмечает Э. Фромм, – проповедь Лютера привела к еще более серьезным последствиям. Потеряв чувство гордости и достоинства, индивид был психологически подготовлен и к тому, чтобы утратить и столь характерную для средневекового мышления уверенность, что смыслом и целью жизни является сам человек, его духовные устремления, спасение его души» [257, c. 78]. Кальвин учит, что мы должны унизиться, что посредством этого самоуничижения мы и полагаемся на всесилие Божие. Он поучает, что человек не должен считать себя хозяином своей судьбы. Человек не должен стремиться к добродетели ради нее самой: это приведет лишь к суете. «Ибо давно уже и верно замечено, что в душе человеческой сокрыты сонмы пороков. И нет от них иного избавления, как отречься от самого себя и отбросить все заботы о себе, напротив, все помыслы к достижению того, что требует от тебя Господь и к чему должно стремиться единственно по той причине, что Ему так угодно» [257, с. 80].
Еще резче Кальвин поставил вопрос, предложив новую версию идеи «предопределения», утверждая, что Бог не только предрешает, кому будет дарована благодать, но и заранее обрекает остальных на вечное проклятие. Согласно Кальвину, спасение или осуждение не зависит ни от какого добра или зла, совершенного человеком при его жизни, но предрекается Богом до его появления на свет. Почему Бог избирает одних и проклинает других, – это тайна, непостижимая для человека, и не следует даже пытаться проникнуть в нее. Бог это делает, потому что ему угодно таким образом проявлять свою безграничную власть.
У Кальвина проглядывает, следовательно, идея прирожденного неравенства людей. У него все люди делились на тех, кто будет спасен, и тех, кому предназначено вечное проклятие. Поскольку эта судьба назначена еще до рождения, никто не в состоянии ее изменить, что бы он ни делал в течение своей жизни. Человеческое равенство отрицается в принципе. Люди созданы неравными. «Хотя и говорят, что Бог послал сына своего для того, чтобы искупить грехи рода человеческого, – проповедует Кальвин, – но не такова была его цель: он хотел спасти от гибели лишь немногих… И я говорю вам, что Бог умер лишь для спасения избранных…» (проповедь, прочитанная в 1609 г. в Бруке) [40, с. 213]. Отсюда и невозможность солидарности между людьми, замечает П. С. Гуревич, поскольку отвергается сильнейший фактор, лежащий в основе этой солидарности, – общность человеческой судьбы [78]. Точно знать, избран ты или отвергнут Господом, невозможно, об этом остается лишь догадываться. Определенным доказательством избранности служит постоянное, упорное и неутомимое следование добродетели. И одной из важнейших добродетелей является труд, профессиональная деятельность.
Кальвинизм требует, чтобы человек постоянно старался жить по-божески и никогда не ослаблял этого стремления. Оно должно быть непрерывным. Сам факт неутомимости человека в его усилиях, какие-то достижения в моральном совершенствовании или в мирских делах служат более или менее явным признаком того, что человек принадлежит к числу избранных. Деятельность служит не достижению какого-то результата, а выяснению будущего. Богатство необходимо не для роскошных трат «здесь», но как доказательство вечного блаженства «там». «Добросовестное стяжание» – это благочестие, соединяющее человека с Богом. Более того, отказ от богатства, коли есть тому возможность, есть грех. «Если Бог указует вам путь, следуя которому вы можете без ущерба для души своей и не вредя другим, законным способом заработать больше, чем на каком-либо ином пути, и вы отвергаете это и избираете менее доходный путь, вы тем самым препятствуете осуществлению одной из целей вашего призвания, вы отказываетесь быть управляющим Бога и принимать дары Его для того, чтобы иметь возможность употребить их на благо Ему, когда Он того пожелает», – комментирует М. Вебер [40].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: