Коллектив авторов - Обыденное и научное знание об обществе: взаимовлияния и реконфигурации
- Название:Обыденное и научное знание об обществе: взаимовлияния и реконфигурации
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Прогресс-Традиция
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-89826-445-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Обыденное и научное знание об обществе: взаимовлияния и реконфигурации краткое содержание
Монография ориентирована на ученых и преподавателей, работающих в области общественных и гуманитарных наук, и адресована всем тем, кто интересуется современной социальной теорией.
Обыденное и научное знание об обществе: взаимовлияния и реконфигурации - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
29. KeilF.C. Folkscience: coarse interpretations of a complex reality // Trends in cognitive sciences. 2003. Yol. 7. № 8. P. 368–373.
30. Kitcher Р. The division of cognitive labor // The Journal of Philosophy. 1990. Yol. 87. № 1. P. 5–22.
31. Knobe J., et al. Experimental Philosophy // Annual review of psychology. 2012. Yol. 63. P. 81–99.
32. Kukla A. Social construction and the philosophy of science. London: Routledge, 2000.
33. Kuklick H. The sociology of knowledge: Retrospect and prospect //Annual Review of Sociology. 1983. Yol. 9. P. 287–310.
34. Lagnado D.A., Channon S. Judgments of cause and blame: The effects of Intentionality and foreseeability // Cognition. 2008. Yol. 108. № 3. P. 754–770.
35. Lewandowsky A., Griffiths T.L., Kalish M.L. The wisdom of individuals: Exploring people’s knowledge about everyday events using iterated learning // Cognitive science. 2009. Yol. 33. № 6. P. 969–998.
36. Loftus E.F. Memories of things unseen // Current directions in psychological science. 2004. Yol. 13. P. 145–147.
37. Longino H. Science as social knowledge. Princeton: Princeton University Press, 1990.
38. Lutz D.J., Keil F.C. Early understanding of the division of cognitive labor // Child development. 2002. Yol. 73. № 4. P. 1073—108.
39. Mannheim K. Essays on the sociology of knowledge. Ed. by P. Kecsemeti. London: Routledge and Kegan Paul ltd., 1952.
40. Mannheim K. Ideologic und Utopie. Trans, by L. Wirth & E. Shilds as Ideology and Utopia. New York: Harcourt, Brace & World. Bonn: F. Cohen, 1929 (1954).
41. Patten S.N. The theory of social forces. New York: Kraus Reprint Co., 1970 [1896].
42. Schwartz B. Social change and collective memory: The democratization of George Washington // American sociological review. 1991. Yol. 56. P. 221–236.
43. Sperber D. Individualisme methodologique et cognitivisme // Cognition et sciences sociales. Boudon et al. (eds.). Paris: PUF, 1997.
44. Strydom P. Introduction: A cartography of contemporary cognitive social theory // European journal of social theory. 2007. Yol. 10. № 3. P. 339–356.
45. Taylor C. Interpretation and the sciences of man // Review of Metaphysics. 1971. Yol. 25. № 1. P. 3–51.
46. Turner S. The social theory of practices: Tradition, tacit knowledge and presuppositions. Cambridge: Polity Press, 1994.
47. Turner S. Social theory as a cognitive neuroscience // European journal of social theory. 2007. Yol. 10. № 3. P. 357–374.
48. Zerubavel E. Social mindscapes: An invitation to cognitive sociology. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1997.
Глава 2
Обыденные теории групп, сообществ и обществ: перспективы социологического анализа
Постановка исследовательской задачи
Специфика сообществ и обществ находилась в центре внимания социологов с самого начала формирования социологии как научной дисциплины. Особенности структуры и динамики сообществ интересовали таких отцов-основателей социологии, как Г. Спенсер и Э. Дюркгейм. Принимая во внимание работы, например, Н. Лумана и И. Валлерстайна, можно констатировать, что указанная тематика продолжает оставаться актуальной.
В то же время социология, изучая эти «агрегаты» индивидов, уделила чрезвычайно мало внимания представлениям самих индивидов о социальных образованиях. Если воспользоваться терминологией А. ЕИюца, можно утверждать, что социология совершила слишком быстрый переход от «наборов конструктов обыденного знания» к конструктам «второго порядка» [10, 61]. Хотя не вызывает сомнений, что в работах Г. Спенсера – и вслед за ними многих других социологов – были эксплицированы интуитивные представления человека (того времени) о социальных образованиях [3], представляется продуктивным «вынести за скобки» научные концепты социологов и обратить пристальное внимание на эти «обыденные», «интуитивные» и «наивные» представления индивидов о группах, сообществах и обществах. Ведь данные конструкты «первого порядка», согласно идеям А. ЕИюца, во многом и определяют поведение индивидов в их повседневной жизни.
Изучение этих конструктов в социологии должно принимать во внимание результаты, полученные в рамках исследований так называемой «народной социологии» (“Folk Sociology”), в центре внимания которых – вопросы о глубине, точности и надежности описательного и объяснительного знания акторов «о себе и о социальном мире, в котором они действуют» [5, 4; см. также: 30]. Отдельная рубрика данных исследований фокусируется на обыденных представлениях о сообществах, а также на «наивных теориях» групп и сообществ.
В связи с этим наша основная задача – произвести систематизацию ключевых исследовательских направлений, сложившихся в рамках социальной психологии и когнитивной науки, в которых рассматривается специфика восприятия социальных образований.
Следует отметить, что эвристический потенциал этого направления успешно задействован социальной психологией: например, показано, что обыденные объяснения индивидуального поведения и выводы о личностных характеристиках индивидов зачастую зависят от воспринимаемой специфики групп, членами которых они являются [35, 135]. Другой пример – продемонстрировано наличие связи между спецификой межгрупповых отношений и групповой идентичностью, с одной стороны, и особенностями восприятия своей группы – с другой [18; 50].
В то же время вопрос, в какой мере результаты исследований «народной социологии» полезны при рассмотрении традиционных социологических сюжетов, остается открытым. В заключении мы попытаемся, во-первых, проанализировать связь между обыденными представлениями о социальных образованиях и существующими научными социологическими теориями, во-вторых – рассмотреть вопрос о полезности наивных теорий для понимания социальных феноменов.
Обыденные представления о социальных образованиях: две парадигмы
Исходным для нашего анализа служит тезис американских психологов Б. Малле и М.О’ Лафлин о возможности аналитического различения двух парадигм в современных исследованиях восприятия социальных образований [42, 33–34; см. также: 16, 19].
Первая парадигма рассматривает социальные образования по аналогии с образами индивидов и делает акцент на восприятии этих сущностей с точки зрения их характеристик и стабильности (неизменности) поведения. Эта парадигма реализует принципы гештальт-психологии и делает акцент на (воспринимаемых) свойствах группы, которые влияют на формирование образа группы как самостоятельного, «реального» и «целостного» образования [42, 33–34; 16, 19; 1,8].
Вторая парадигма исходит из допущения, что возможна аналогия между восприятием индивидов и социальных образований как действующих агентов. Эта парадигма восходит к исследованиям так называемой «Теории психического» (Theory of Mind), т. е. обыденной теории, которой пользуются индивиды для объяснения действий другого в терминах его желаний, мыслей, убеждений и эмоций [21, 853]. В конечном счете, усилия представителей этой парадигмы направлены на проверку предположения о том, что индивиды воспринимают социальные образования в качестве агентов и объясняют их интенциональные действия соответствующим образом [42, 34].
Разумеется, противопоставление этих парадигм достаточно условно. Так, в рамках первой парадигмы также может идти речь о поведении социальных образований: следуя логике теории атрибуции, наличие того или иного образа группы или сообщества позволяет делать предположения о ситуационных или диспозиционных причинах действия [42, 34]. М. Брюер с коллегами полагают, что хотя мышление о группах как агентах можно противопоставлять представлению о них как о сущностях, однако оба фактора вносят вклад в формирование образа группы в некоторый момент времени [16, 22]. Например, члены семьи могут восприниматься как обладающие сходными чертами (в силу общего опыта и наследственности), однако, если в конкретных обстоятельствах членам этой группы не удается координировать свои усилия для достижения некоторой общей цели, то едва ли эта семья будет восприниматься как целостное образование [16, 22]. Примечательно, что при попытках объяснить действия семьи как актора индивиды могут апеллировать не к желаниям и намерениям семьи в целом, а к некоторым причинным основаниям, в том числе – указанным сходным чертам.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

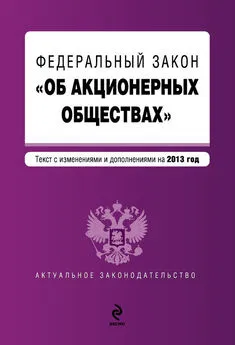



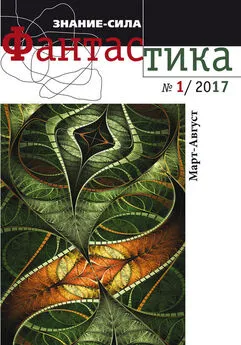

![Коллектив авторов - Вера и личность в меняющемся обществе [litres]](/books/1143889/kollektiv-avtorov-vera-i-lichnost-v-menyayuchemsya-obch.webp)


