Коллектив авторов - Обыденное и научное знание об обществе: взаимовлияния и реконфигурации
- Название:Обыденное и научное знание об обществе: взаимовлияния и реконфигурации
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Прогресс-Традиция
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-89826-445-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Обыденное и научное знание об обществе: взаимовлияния и реконфигурации краткое содержание
Монография ориентирована на ученых и преподавателей, работающих в области общественных и гуманитарных наук, и адресована всем тем, кто интересуется современной социальной теорией.
Обыденное и научное знание об обществе: взаимовлияния и реконфигурации - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Третье направление наиболее последовательно реализует логику исследований «Теории психического» применительно к мышлению о социальных образованиях. Исследование обыденных представлений об интенциональном действии показало, что люди при объяснении такого действия ссылаются на определенные феномены, которые рассматриваются ими в качестве его причин. Этими феноменами могут быть: 1) субъективное основание (reason), включающее убеждения или желания действующего; 2) намерение, которое формируется на основе убеждений и желаний; 3) факторы, связанные с возможностью осуществлять действие, включающие обладание необходимыми навыками, приложение усилий, а также наличие способствующих или препятствующих обстоятельств; 4) «причинная история оснований», – некие причины, которые обусловливают наличие у актора специфических оснований [36; см. также: 2]. Вопрос состоит в том, в чем заключается специфика объяснения действия коллективных акторов. Б. Малле и М.О’ Лафлин показали, что если сравнивать объяснения действий индивидов с действиями групп-агрегатов (например, США или сенаторы) и совместно действующих групп (например, группа сенаторов, афро-американский совет), то при объяснении поведения последних чаще всего наблюдаются ссылки на субъективные основания, тогда как при объяснении поведения групп-агрегатов – реже всего [42, 39–40]. Что касается приписывания коллективным субъектам ментальных состояний, то существуют эмпирические свидетельства беспроблемного приписывания пропозициональных состояний (например, убеждений, желаний и намерений), тогда как непропозициональные состояния (например, радость, чувство боли и воображение) приписываются коллективным акторам скорее в редких случаях [38, 120–123]. Наиболее интересным развитием этого направления исследований представляется обращение к тематике моральных суждений и приписывания ответственности коллективным акторам: в современной литературе имеется согласие относительно того, что способность группы к интенциональному действию является необходимым условием для того, чтобы рассматривать ее в качестве морального агента [38, 130]. В то же время Б. Малле выделяет ряд вопросов, на которые следует дать ответ в будущих исследованиях:
1. Насколько легко и какими способами люди могут обвинять коллективных акторов? В отличие от межличностного взаимодействия, индивиды редко сталкиваются лицом к лицу с коллективными акторами (скорее, лишь с его представителями), что ограничивает возможности порицания или наказания. Кроме того, вероятность, что коллективные акторы «заметят» обвинение отдельного индивида, чрезвычайно мала.
2. Каким образом можно регулировать поведение коллективных акторов? По-видимому, ограничить действия виновного актора может только другой коллективный актор.
3. Что может выступать в качестве потенциального наказания для коллективного актора? Как было показано, таким акторам не приписываются чувства и эмоции, как следствие, едва ли здесь возможна саморегуляция, основанная на чувствах вины или сожаления [38, 133–134].
В то же время дать ответы на эти вопросы поможет более четкое понимание механизмов приписывания интенциональности/ответственности индивидуальными членами коллективного субъекта и актору в целом. Здесь мы возвращаемся к старому философскому и юридическому вопросу об ответственности, например, работников концлагерей или солдат в составе армии, осуществляющей вооруженную агрессию [14] Обсуждение философских аспектов вопроса о коллективной ответственности см., например, в: [20].
. Методология исследований «наивных» теорий групп и сообществ позволяет рассмотреть эти вопросы эмпирически, сместив фокус в сторону обыденного приписывания ответственности.
Заключение
В самом начале работы мы отмечали, что обыденные теории социального скорее всего коррелируют с научными представлениями «классиков» социологической мысли. Сам факт наличия органицизма как влиятельного направления в социологии конца XIX – начала XX века свидетельствует, что рассмотрение социальных образований в качестве самостоятельных единиц, подобных живым существам, а значит, имеющих собственные цели и, возможно, мотивы, не было чем-то исключительным.
Остается открытым вопрос, как связаны изложенные в работе обыденные теории с современными научными представлениями о социальном. На первый взгляд кажется, что научные представления зашли далеко вперед, так что ученые при объяснении социальных феноменов редко апеллируют к обществам как «целостным» образованиям, имеющим самостоятельное существование, а тем более – как акторам, преследующим собственные цели.
Если говорить об обществе как «целостном» социальном образовании, имеющем собственное существование, то несмотря на наличие различных системных теорий, практически ни одна из них не принимает большинство допущений, характерных для обыденного мышления. Так, для Т. Парсонса первостепенное значение имеет то, что система – это нечто, состоящее как минимум из двух взаимодействующих единиц, «которые одновременно являются друг для друга акторами и социальными объектами» [8, 30], что в принципе соответствует обыденным представлениям. Более того, социальная система, по Парсонсу, – это вполне самостоятельная, интегрированная система (в смысле наличия взаимосвязанных компонентов), что позволяет говорить о ней как о «целостном» образовании. Однако стоит помнить, что, во-первых, социальная система – это также подсистема системы действия, во-вторых, что Парсонс предпочитает говорить о своей теории как об «аналитическом» построении, что делает вопрос о реальном существовании общества второстепенным. Иными словами, хотя социальная система имеет нечто общее с социальными образованиями, о которых мы все обыденно мыслим, однако не меньше свойств их отличает друг от друга.
Другой пример – это теория Н. Лумана, в которой социальная система представляет собой нечто, обладающее реальными статусом, и определяется через «различие между системой и окружающим миром» [7, 68]. С одной стороны, это напоминает важную характеристику социальных образований, выделяемую обыденным сознанием, – наличие четкой границы с внешним миром. С другой – социальная система, по Луману, – это не совокупность взаимодействующих индивидов, как это предполагается в обыденных теориях. То есть и в этом случае тезис, что обыденное и научное знание об обществах в значительной степени совпадают, выглядит неправдоподобно.
Если же говорить о второй парадигме, рассматривающей сообщества как акторов, имеющих цели, желания и даже мысли, то, как уже отмечалось, найти подобные представления в современном научном знании затруднительно. Общим трендом можно считать приписывание ментальных состояний исключительно индивидам, но не надындивидуальным образованиям. Так, И.Ф. Девятко отмечает, что последние социологические версии субъективизма, согласно которым в качестве источника действия рассматривается некий холистский «сверхиндивид», обладающий «надындивидуальной волей», «исчерпываются, видимо, консервативной традицией в политической социологии» [4, 47–48]. В исключительных случаях можно найти лишь релевантные метафоры, за которыми, по-видимому, стоят скорее интуитивные, а не научные представления. Например, М. Дуглас, назвав свою работу «Как мыслят институты», подчеркивает, что на самом деле «институты не могут сами мыслить», однако институты определяют индивидуальное мышление, а принятие важных решений, как правило, происходит в рамках, заданных институтами [22, 8]. Другой, может быть даже более показательный пример, – это рассуждения о «столкновении цивилизаций» С. Хантингтона. Хотя под цивилизацией он понимает «культурную общность наивысшего ранга», подразумевающую высокий уровень культурной идентичности людей, однако очень часто С. Хантингтон пишет о цивилизациях как полноценных акторах, которые «реализуют свои экономические интересы» и «навязывают другим странам экономическую политику по собственному усмотрению» [9]. Скорее всего, приписывание этим коллективным акторам ментальных состояний – это метафора, которая, тем не менее, составляет ядро концепции [15] Впрочем, здесь мы не рассматриваем вопрос, в какой степени концепцию С. Хантингтона можно назвать именно социологической теорией.
. Вероятно, именно поэтому идея «столкновения цивилизаций», будучи интуитивно ясной, получила распространение в неакадемических кругах.
Интервал:
Закладка:

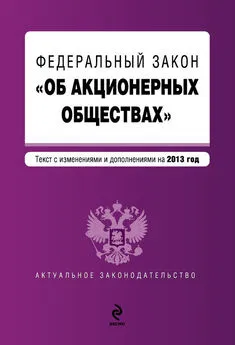



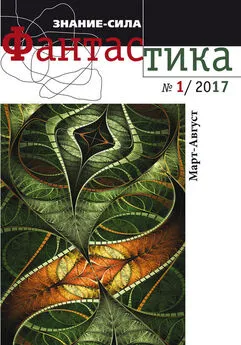

![Коллектив авторов - Вера и личность в меняющемся обществе [litres]](/books/1143889/kollektiv-avtorov-vera-i-lichnost-v-menyayuchemsya-obch.webp)


