Коллектив авторов - Обыденное и научное знание об обществе: взаимовлияния и реконфигурации
- Название:Обыденное и научное знание об обществе: взаимовлияния и реконфигурации
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Прогресс-Традиция
- Год:2015
- Город:Москва
- ISBN:978-5-89826-445-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Коллектив авторов - Обыденное и научное знание об обществе: взаимовлияния и реконфигурации краткое содержание
Монография ориентирована на ученых и преподавателей, работающих в области общественных и гуманитарных наук, и адресована всем тем, кто интересуется современной социальной теорией.
Обыденное и научное знание об обществе: взаимовлияния и реконфигурации - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
При этом используемый в данном прецедентном отрывке концепт мышления понимается предельно широко, а отнюдь не в узкорационалистическом смысле, как можно было бы ожидать от рационалиста Декарта, т. е. как синоним всей деятельности человеческого сознания, включая и чувственный уровень: «Под словом “мышление” (cogitatio) я разумею все то, что происходит в нас таким образом, что мы воспринимаем его непосредственно сами собою; и поэтому не только понимать, желать, воображать, но также чувствовать означает здесь то же самое, что мыслить» [1, 240].
Спор между рационалистами и эмпиристами о том, что выступает ключевым средством познания – разум или чувства, при всей его важности, сам по себе имеет второстепенное, «тактическое» значение в свете задачи описания идейных предпосылок конструктивистского образа мысли. Декарт и Лейбниц говорили о врожденных идеях, Локк о чувственном опыте как источнике познания, а также о первичных и вторичных качествах вещей. Причем в отличие от первичных качеств, т. е. механических характеристик предметов, вторичные – цвет, вкус, запах, звук, – по мнению Локка, имеют субъективное происхождение. Беркли и Юм вообще не признавали первичных качеств, считая все свойства вещей продуктами индивидуального восприятия, элементами подлежащего мыслительной обработке потока впечатлений. Кант создал учение об априорных формах созерцания и категориях рассудка, без которых наша чувственность, имеющая дело с данными опыта, навсегда осталась бы слепа.
Гносеологические системы упомянутых авторов (можно было бы приводить и другие имена, в т. ч. более поздние) отличаются по множеству параметров. Но, тем не менее, есть у них и нечто общее. Есть некий познающий субъект, – неважно, трансцендентальный или эмпирический, «чистое Я» или «не очень чистое». Есть «на входе» некий материал когнитивного и/или практического опыта, чувственные данные. Далее в работу по формовке этого материала включаются: чувства, созерцание, впечатления, ощущения, восприятия, представления, суждения, идеи, понятия, категории, рассудок, разум, душа, дух, вера, интуиция, логика, способности, наклонности, предрасположенности… и т. п. (список намеренно отставлен неполным и может быть существенно расширен за счет новаций XIX–XX вв.). И это все – характеристики субъекта.
Все перечисленные компоненты, агенты и факторы познавательного процесса, как бы мы ни толковали их природу, взаимоотношения и соподчиненность, порождают определенный результат – человеческое знание о мире. А это знание – независимо от его способности выступать референцией, «отражением» какой бы то ни было «действительности», материальной, духовной или Божественной, несет на себе отпечаток собственного устройства, своей внутренней структурной организации. Можно было бы, наверное, предположить, что исходный материал, с которым имеет дело сознание, в ходе такой обработки изменяется или преобразуется, иногда «до неузнаваемости». Однако точно оценить степень преломленности или искаженности образующегося портрета реальности (скорее даже – ее множественных эскизов) представляется затруднительным, поскольку сама эта реальность никогда не бывает дана нам непосредственно.
Среди старых континентальных европейских философов Кант был, пожалуй, наиболее востребован в философии и методологии науки новейшего времени. И это касается отнюдь не одной лишь неокантианской традиции. Представители конкретных дисциплин, ученые-предметники, не чуждые интереса к философии, относились к нему серьезно, не как к «мудрено-высокопарному сказочнику» (вроде Гегеля). Так вот, Кант может быть при желании прочитан с достаточно высокой степенью конструктивистского радикализма. И что бы ни говорили при этом пуристски настроенные кантоведы, он дает поводы для таких прочтений. Отталкиваясь от общей теоретической рамки априоризма, можно легко прийти к следующим положениям:
Мир как «первозданная», не обработанная нашим умом «непрерывная разнородность» или «разнородная непрерывность» познан быть не может (Г. Риккерт) [14]. Он должен быть «упрощен» в сознании, подогнан под схему, вписан в программу, или, как скажут позже, ему показана процедура «редукции комплексности». Иначе, мы попросту не могли бы ориентироваться в действительности, ни когнитивно, ни поведенчески. Таким образом, мир воспринимается как некий порядок, единство, целое, система не потому, или не только потому, что порядок есть в нем самом (может есть, а может и нет) [21] Именно из этой точки произрастает корень кантианского агностицизма.
, но потому что сам аппарат нашего восприятия и наша интеллектуальная оптика устроены или настроены так, что мир перед нами предстает в упорядоченном виде. Поскольку имманентные структурирующие и организующие опыт функции сознания остаются по большей части имплицитными или латентными, мы склонны считать, что единственным источником искомого порядка являются вещи сами по себе. Мы, сами того не замечая, превращаем первородный «хаос» опыта в «космос», организованную вселенную, выступая при этом фактическими соучастниками процессов творения его системных свойств. Сознание изыскивает в реальности взаимосвязи, но это было бы невозможно, если бы в его распоряжении не находились «априорные формы» обработки информации – «системы координат» пространства и времени, логические категории, понятия закона, причинности и т. п. Чувства и разум, восприятия и мышление как части единого когнитивного процесса накладывают на мир своего рода «трафаретку», выполняя тем самым важную «субъективно навигационную» миссию – становясь более или менее эффективным «лекарством от ряби в глазах».
Такая точка зрения может быть легко переведена в формат других, «некантианских» в узком смысле, систем мысли. К примеру, Джосайя Ройс, учившийся, правда, в ранние годы у Лотце и Виндельбанда, уже по другую сторону Атлантики пишет: «…закон, состоящий в том, что наше сознание постоянно тяготеет к минимуму сложности и максимуму определенности, имеет огромную важность для всего нашего знания… Таким образом, наша собственная активность внимания будет определять, что мы будем знать и чему будем верить. Если вещи обладают сложностью сверх некоторого уровня, то не только наши ограниченные способности внимания не будут позволять нам распутать эту сложность, но и мы будем настойчиво желать верить вещам гораздо более простым. Ибо наши мысли о них будут постоянно склоняться к тому, чтобы стать как можно проще и определеннее. Поместите человека в совершенный хаос феноменов – звуков, видов, ощущений, – и если человек вообще продолжит существовать и останется разумным, то его внимание, несомненно, скоро отыщет способ образовать какую-нибудь ритмическую регулярность, которую он вменит окружающим вещам, дабы вообразить, что он открыл в этом безумном новом мире некие законы последовательности. Таким образом, всегда, когда мы воображаем себя уверенными в простом законе Природы, мы должны помнить, что немалая доля воображенной простоты может быть обусловлена не Природой, а неискоренимым пристрастием нашего разума к регулярности и простоте. Все наши мысли детерминированы в значительной мере этим законом наименьшего усилия, как он обнаруживается в нашей активности внимания» [6, 66].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

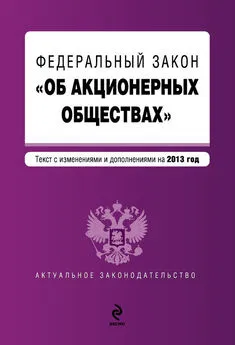



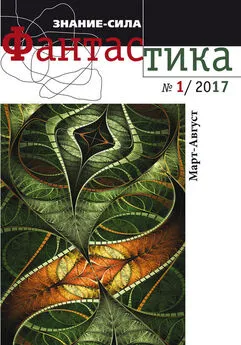

![Коллектив авторов - Вера и личность в меняющемся обществе [litres]](/books/1143889/kollektiv-avtorov-vera-i-lichnost-v-menyayuchemsya-obch.webp)


