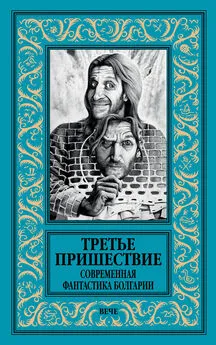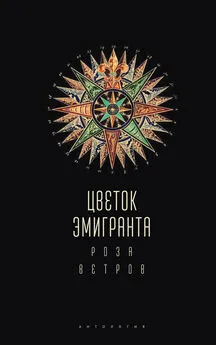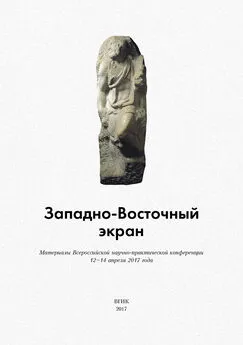Array Коллектив авторов - Западная социология: современные парадигмы. Антология
- Название:Западная социология: современные парадигмы. Антология
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Вышэйшая школа
- Год:2015
- Город:Минск
- ISBN:978-985-08-1814-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Array Коллектив авторов - Западная социология: современные парадигмы. Антология краткое содержание
Адресуется научным работникам, преподавателям и студентам социологических и управленческих специальностей, а также всем, кто интересуется трудами социальных мыслителей современности.
Западная социология: современные парадигмы. Антология - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Наконец, концепт коммуникации четко показывает, что общество – это самоописывающая и самонаблюдающая система. Даже простая коммуникация возможна только в рекурсивной сети предшествующих и последующих коммуникаций. Такая сеть может стать своей собственной темой, может информировать себя о своей коммуникации, может подвергать сомнению информацию, отказывать в принятии, давать нормы достоверной и недостоверной информации и т. д. – поскольку все это возникает в оперативной форме коммуникации. Становится очевидным двойное положение дел: что общество – это самонаблюдающая и самоописывающая система и что оно может использовать свой собственный способ операции и должно это делать, чтобы производить подобные самореферентные операции. И это также применимо к науке и к социологии. Все коммуникации об обществе обусловлены обществом. Не существует внешнего наблюдателя с какой-нибудь даже частично адекватной компетенцией.
Мы можем теперь определить концепт общества как промежуточный результат. Общество – это всеобъемлющая система всех коммуникаций, которые воспроизводят себя аутопойетически через рекурсивную сеть коммуникаций, которые производят новые (и всегда другие) коммуникации. Возникновение подобной системы включает коммуникации, поскольку они только внутренне способны к продолжению. И оно исключает все остальное. Воспроизводство подобной системы, таким образом, требует способности проводить различение между системой и средой. Коммуникации могут признавать коммуникации и отличать их от других обстоятельств, что принадлежат к среде в том смысле, что можно, определенно, совершать коммуникацию о них, но не с ними.
Это ведет к вопросу: что изменяется, когда мы используем этот концепт? <���…> Для начала мы теряем возможность делать утверждения о «человеке». Что мы приобретаем тогда? Я хочу обсудить этот вопрос в отношении трех примеров: языка, отношений между индивидом и обществом и рациональности.
Что касается языка, то системно-теоретический концепт общества предлагает нам отбросить понятие о том, что язык является системой. Сколько бы лингвистов, идущих по следам Соссюра, ни придерживались этого понятия из-за того, что оно, как им кажется, обеспечивает академическую самодостаточность их дисциплины, вряд ли можно воспринимать и язык, и общество как систему. Степень совпадения будет слишком велика и не приведет к согласованности концептов, поскольку существует и нелингвистическая коммуникация. Отношение между двумя системами осталось бы неясным. Лингвисты, конечно, могут находить удовольствие в мысли о том, что они не социологи. Дифференциация дисциплин, однако, не достаточный ответ на такие сущностные вопросы.
Если концепт системы больше нельзя применять к языку, это, конечно, не значит, что феномен языка теряет значение. Верно обратное. Пустое место в теории можно заполнить по-разному с помощью концепта структурного сопряжения. Проблема, которая решается этим концептом, состоит в том, что система может быть детерминирована единственно через свои собственные структуры, и только через структуры, которые она конструирует и может изменять посредством своих операций; в то же самое время не подлежит сомнению, что такого рода оперативная автономия предполагает кооперацию, аккомодацию со стороны среды. Как выражается Умберто Матурана, структурные сопряжения стоят в ортогональном отношении к аутопойезису системы [Maturana, 1982]. Они не добавляют никаких операций, способных воспроизводить саму систему, т. е. в нашем случае – никаких коммуникаций. Однако они побуждают систему к раздражениям, они беспокоят систему таким образом, которому затем придается внутренняя форма, с которой система может работать.
Применительно к коммуникации мы можем с помощью этого концепта сказать, что в результате своей поразительной характеристики язык служит структурным сопряжением коммуникации и сознания. Язык держит коммуникацию и сознание, а следовательно – общество и индивида – отдельно друг от друга. Мысль никогда не может быть коммуникацией, как и коммуникация никогда не может быть мыслью. В рекурсивной сети своих собственных операций у коммуникации всегда разные предшествующие и последующие элементы в их последовательности в поле внимания индивидуального сознания. На оперативном уровне совпадения нет. Мы имеем дело с двумя различными оперативно закрытыми системами. Решающим является тот факт, что, несмотря на это, язык способен сопрягать системы, и именно в их различной манере оперирования. Язык достигает этого благодаря своей искусственной заметности в акустической среде звуков и затем в оптической среде письменных знаков. Он может зачаровывать и концентрировать внимание и в то же самое время воспроизводить коммуникацию. Соответственно, его функция состоит не в опосредовании отсылок к внешнему миру, но единственно в структурном сопряжении.
Однако это лишь одна сторона его достижений. Как и все структурные сопряжения, язык обладает включающим и исключающим эффектом. Он увеличивает возбудимость сознания через коммуникацию и возбудимость общества через сознание, что трансформирует внутренние состояния в язык и в понимание или непонимание. В то же самое время это означает, что другие источники раздражения для системы общества исключены, т. е. язык изолирует общество от практически всех событий среды физической, химической или живой природы за единственным исключением раздражения через импульсы сознания. Так же как мозг почти полностью изолирован от всего, что происходит в среде, из-за чрезвычайно малой физической способности глаза и уха к резонансу, так и система общества почти полностью изолирована от всего, что происходит в мире, небольшим набором стимулов, канализируемых через сознание. Что применимо к мозгу, применимо и к обществу: эта практически полная изоляция является условием оперативной замкнутости с возможностью конструирования явления высокой внутренней сложности.
Эти рефлексии вводят нас в область вопроса отношений между индивидом и обществом. Социология не может действительно принимать индивида как часть общества, но она и не может отделить себя от этого понятия. Социология боролась с этой проблемой с тех самых пор, как стала академической дисциплиной. В противоположность этому концепт общества, представленный здесь, исходит из полного разделения индивида и общества. И на этой основе возможна теоретическая программа, серьезно воспринимающая индивида.
В самой грубой форме это звучит так: «участие» индивида в обществе исключено. Между индивидом и обществом нет коммуникации, поскольку коммуникация – это всегда внутренняя операция социальной системы. Общество никогда не может выйти за свои рамки посредством своих операций и контролировать индивида; с помощью своих операций оно может лишь воспроизводить собственные операции. Общество не может оперировать за пределами своих границ – это должно быть достаточно понятным. То же самое применимо и к жизни, и к индивидуальному сознанию. Здесь тоже в системе остаются системовоспроизводящие операции. Ни одна мысль не может покинуть сознание, которое она воспроизводит. Принимать индивидуальность серьезно – значит воспринимать индивидов как продукт их собственной деятельности, как самореферентные исторические механизмы, которые с каждой аутооперацией определяют начальное условие для дальнейших операций и которые могут делать это только посредством своих собственных операций.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:

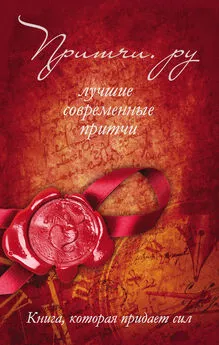
![Array Коллектив авторов - Здравствуйте, доктор! Записки пациентов [антология]](/books/1114841/array-kollektiv-avtorov-zdravstvujte-doktor-zapi.webp)