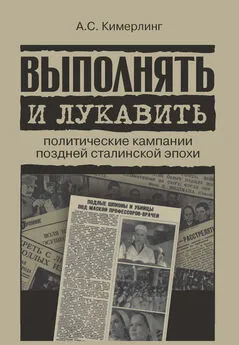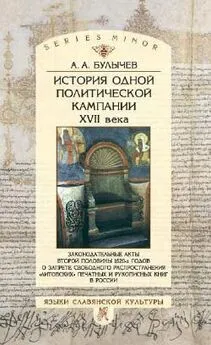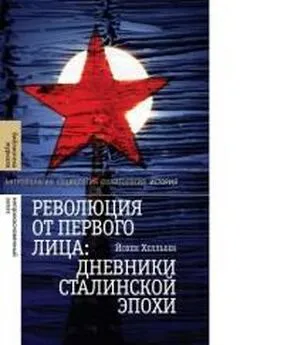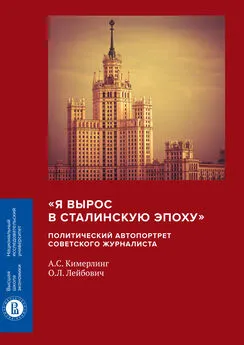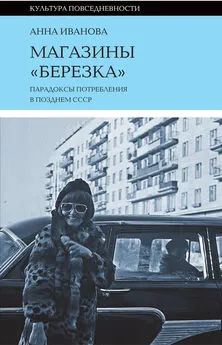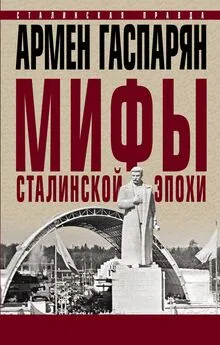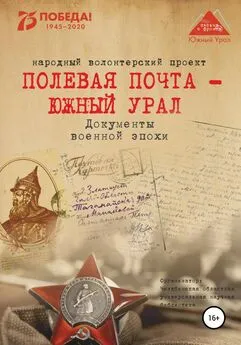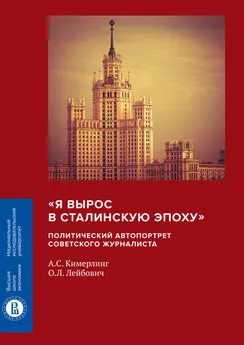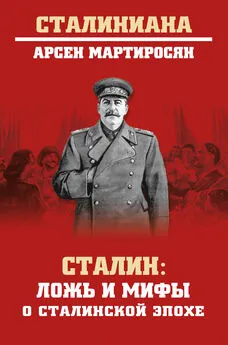Анна Кимерлинг - Выполнять и лукавить. Политические кампании поздней сталинской эпохи
- Название:Выполнять и лукавить. Политические кампании поздней сталинской эпохи
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Высшая школа экономики
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-7598-1533-4,978-5-7598-1651-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анна Кимерлинг - Выполнять и лукавить. Политические кампании поздней сталинской эпохи краткое содержание
Для преподавателей и студентов гуманитарных факультетов, а также для широкого круга читателей, интересующихся историей сталинской эпохи.
Выполнять и лукавить. Политические кампании поздней сталинской эпохи - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Несмотря на то что понимание повседневности в работах А. Шюца было проработано с большой глубиной, на тот момент оно не приобрело особой влиятельности в гуманитарных науках. Так, Ф. Бродель понимал под повседневностью нечто иное, а именно «системы достаточно устойчивых отношений между социальной реальностью и массами», включающие «географические, демографические, агротехнические, производственные и потребительские условия материальной жизни», а также «собственно экономические структуры общества, связанные со сферой обмена… и возникающие на их основе социальные структуры, начиная с простейших торговых иерархий и заканчивая, если того требует предмет исследования, государством» [152] Новая философская энциклопедия: в 4 т…. Т. I. С. 311.
, а современные историки вообще понимают повседневность слишком аморфно, как то, «что происходит каждый день, в силу чего не удивляет» [153] Орлов И. Б. Указ. соч. С. 9.
. Тот факт, что в середине ХХ в. так и не удалось перебросить мост между социолого-философской и исторической трактовкой повседневности, объясняется достаточно просто. Как известно, А. Шюц при жизни издал лишь одну книгу в 1932 г. и предпочитал оставаться свободным ученым, став преподавателем только под конец жизни, в 1952 г. [154] Абельс Х. Указ. соч. С. 67–68.
Не способствовала популяризации его идей и чрезмерная усложненность его теоретических построений. Только в результате деятельности его учеников П. Бергера и Т. Лукмана, обобщивших его взгляды и придавших теории повседневности более или менее стройный вид, эта концепция стала приобретать популярность в 1960-х годах.
Именно в период 1960–1970-х годов начинается настоящее сближение социологической теории повседневности и исторической науки. Этому предшествовало несколько очередных попыток «обновить» историю, например в рамках устной истории либо истории Х. Уайта и Д. Ла Капра. Правда, эти попытки означали скорее капитуляцию истории как науки, нежели методологиче ские прорывы. Так, попытки «соединить историю, литературу и философию», равно как и последовавший за этим «новый историзм», а также постструктуралистский историзм Р. Барта выглядели больше как вторжение иных наук на поле истории или отрицание за историей статуса полноценной науки, чем как выработка новой исследовательской парадигмы.
Стоит упомянуть историческую социологию, возникающую как раз в этот период, в 1950–1980-е годы (Р. Бендикс, Б. Мур, И. Валлерстайн и др.). Но, по словам М. Крома, для исторических социологов в большей степени характерна попытка генерализаций и поиска каузальных связей, чем внимание к историческому контексту [155] Кром М. М. Сравнение в истории и исторической социологии: общность метода и различие дисциплинарных подходов // Стены и мосты-II. Междисциплинарные и полидисциплинарные исследования в истории: матер. межд. науч. конф. Москва, РГГУ, 13–14 июня 2013 г. М.: Академический Проект, 2014. С. 37.
, т. е. они действуют, скорее, в рамках макросоциологических подходов и поэтому к рассматриваемой теме не относятся.
Выход из обострившегося кризиса методологии истории произошел благодаря П. Бергеру и Т. Лукману, чья книга «Социальное конструирование реальности» вышла в 1969 г. Социология повседневности на тот момент еще не была в ходу. Поэтому содержание этой книги было и банальным, и провокационным одновременно. Опираясь на К. Маркса, М. Вебера, К. Манхейма, А. Шюца и Дж. Мида, авторы утверждали, что «все объективные условия жизни людей определяют их мышление. С такой точки зрения даже субъективные условия, от которых, по мнению индивида, зависят его мышление и деятельность, являются на самом деле объективными условиями, потому что у них имеется общественно обусловленная предыстория, которая входит в индивидуальную биографию человека и ограничивает действия и идентичность вполне определенными возможностями» [156] Абельс X. Указ. соч. С. 108.
. Тем самым в книге поднимался и заново решался извечный вопрос многих гуманитарных наук: соотношение между личным восприятием мира и большими социальными структурами. И если ранее ответ на него давался в пользу социальных структур, определявших поведение людей по «объективным» законам истории и социологии, то теперь ответ звучал иначе: люди сами в ходе взаимодействий «лицом к лицу» создают устойчивые шаблоны поведения, которые затем ими объективизируются, т. е. начинают восприниматься как существующие до начала взаимодействия, затем легитимизируются (получают «объективное» объяснение и обоснование) и тем самым институциализируются, приобретают принудительную силу. Именно так рассуждали и первые представители микроистории – Дж. Леви, К. Гинзбург, Э. Ле Руа Ладюри. Как пишет С. Черутти, «решение ограничить поле исследования, спустить его до “микро”-уровня и тщательным образом выискивать единичных “действующих лиц” исторических процессов стало реакцией на высокомерие и самонадеянность сторонников этаблированного исторического “здравого смысла”, навязывавшего определенные временные масштабы исследования, его границы и понятийный аппарат, что нередко приводило к возникновению грубых анахронизмов» [157] Черутти С. Микроистория: Социальные отношения против культурных моделей? // Казус: Индивидуальное и уникальное в истории. 2005 / под ред. М. А. Бойцова, И. Н. Данилевского. М.: ОГИ, 2006. С. 354–375.
. Пытаясь их избежать, микроистория переносит акцент на изучение объекта «под микроскопом», и именно благодаря «максимально многостороннему и точному освещению исторических особенностей и частностей, характерных для общности индивидов исследуемого района, взаимосвязь культурных, социальных, экономических и политико-властных моментов раскрывается как взаимозависимость всех объектов исторического бы тия» [158] Медик Х. Указ. соч. С. 193.
. Да и сами представители микроистории указывают на то, что одним из стимулов разработки этой теории являлась «собственная динамика внутринаучных противоречий и событий, как, например, широкие интеллектуальные дебаты по проблемам гуманитарных наук и особенно вызов, брошенный социальной истории этнологией и культурно-антропологическими исследова ниями» [159] Там же. С. 195.
.
Из социологии П. Бергера и Т. Лукмана вытекают два направления социальной мысли, получившие широкое хождение в разных гуманитарных науках. Это теория практик и конструктивизм. Так называемый прагматический поворот по версии В. Волкова и О. Хархордина начинается с 1980-х годов [160] Волков В., Хархордин О. Теория практик. СПб.: Изд-во Евро пейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2008.
. По мнению этих авто ров, «сегодня теория практик если и существует, то лишь как удобная территория для междисциплинарных исследований» [161] Волков В., Хархордин О. Указ соч. С. 12.
. Тем не менее все эти исследования объединяет одно общее понятие, давшее название всему «повороту». Практики у Л. Витгенштейна – это языковые игры, или «инструментальное использование языка в контекстах практической деятельности». (Л. Витгенштейна, творившего в первой половине ХХ в., цитируемые авторы относят к родоначальникам «прагматического поворота [162] Там же. С. 14.
.) Для Г. Гарфин келя практики есть «искусство решения практических задач в ситуации неопределенности» [163] Там же. С. 15.
, в социологии искусства и литературной теории – «неявные правила или коллективные нормы», по которым научное сообщество устанавливает «значимые факты», «приемлемые объяснения» и «смыслы текстов» [164] Там же. С. 16.
. В исторических исследованиях Н. Элиаса, М. Фуко, Р. Шартье, П. Бёрка с помощью понятия «практика» демонстрируется, как те или иные «формы опыта (сексуальность, насилие, сумасшествие, познание, смерть) и самосознания (личность, индивидуальность), а также ставшие основными культурные навыки (манера поведения, разговорная речь, чтение) имеют длительную и, часто, нелинейную историю становления», несмотря на кажущуюся естественность [165] Там же. С. 16–17.
. Наиболее подробно эта категория разбирается в работах П. Бурдье, для которого практики – это способность социальных субъектов проверять свои поведенческие акты на соответствие сложившимся представлениям об окружающей действительности… Социаль ной практикой можно считать как целесообразные действия индивидов по преобразованию социального мира, так и каждодневные, привычные поступки, не требующие объяснения и зачастую кажущиеся внешнему наблюдателю лишенными смысла или же нелогичными [166] Шугальский С. С. Социальные практики: интерпретация понятия // Знание, понимание, умение. 2012. № 2. С. 276.
. Наиболее провокационно звучат работы М. Фуко, для которого практики есть дисциплины, производимые социальными институтами, такими как школа, фабрика, больница, тюрьма, армия.
Интервал:
Закладка: