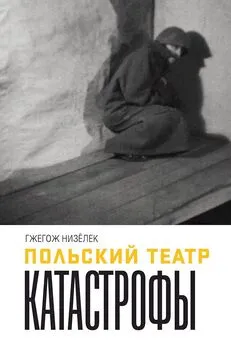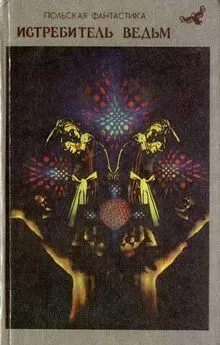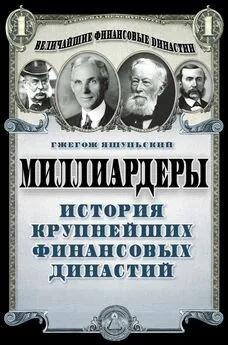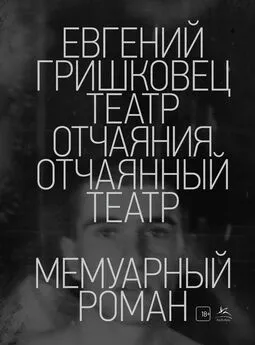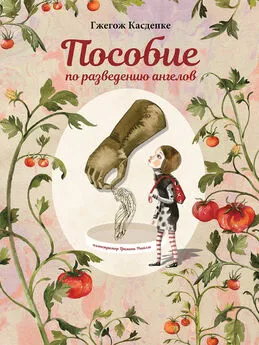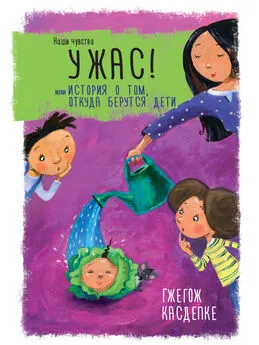Гжегож Низёлек - Польский театр Катастрофы
- Название:Польский театр Катастрофы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-44-481614-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Гжегож Низёлек - Польский театр Катастрофы краткое содержание
Книга Гжегожа Низёлека посвящена истории напряженных отношений, которые связывали тему Катастрофы и польский театр. Критическому анализу в ней подвергается игра, идущая как на сцене, так и за ее пределами, — игра памяти и беспамятства, знания и его отсутствия. Автор тщательно исследует проблему «слепоты» театра по отношению к Катастрофе, но еще больше внимания уделяет примерам, когда драматурги и режиссеры хотя бы подспудно касались этой темы. Именно формы иносказательного разговора о Катастрофе, по мнению исследователя, лежат в основе самых выдающихся явлений польского послевоенного театра, в числе которых спектакли Леона Шиллера, Ежи Гротовского, Юзефа Шайны, Эрвина Аксера, Тадеуша Кантора, Анджея Вайды и др.
Гжегож Низёлек — заведующий кафедрой театра и драмы на факультете полонистики Ягеллонского университета в Кракове.
Польский театр Катастрофы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Блонский знал, что этот процесс будет для польского общества болезненным, поэтому как бы априори вписывал его в некое возвышенное переживание, которое складывалось из нескольких элементов: безоговорочного признания фактов и собственной вины (даже если исторические условия позволяли бы оправдать столь массовое явление общественной пассивности по отношению к чужому страданию), подтверждения христианских основ польской общности, сакрального в своих основах жеста всеобщего очищения. Язык этому возобновленному свидетельствованию о Катастрофе давала поэзия Милоша — Блонский специально ставил столь высоко планку речевого акта признания вины. Этот вариант принятия на себя позиции свидетелей Катастрофы мог бы защитить поляков от жестокого урока Ланцмана, от непристойности запомнившихся картин. Блонский не возобновлял вопрос о том, была ли Катастрофа видима (он признавал это очевидным фактом, исторически задокументированным и закрытым делом), он скорее задавал вопрос о возможности коллективного катарсиса: «Польская земля была опорочена, обесчещена, и на нас лежит обязанность ее очистить» [42] Błoński J. Biedni Polacy patrzą na getto // Błoński J. Biedni Polacy patrzą na getto. Op. cit. S. 33.
. Если в заключительной фразе своей статьи он писал об «обязанности увидеть наше прошлое в свете истины», акт ви́дения имел тут, как представляется, исключительно метафорический и этический смысл. Оказалось, однако, что не только не удастся удержать столь высокий регистр разговора, но и укрыться перед менее метафорическим ви́дением событий прошлого.
Нельзя не задать вопроса, как следует понимать тот факт, что «польская земля была опорочена, обесчещена». Идет ли речь о «запятнанности», как о чем-то материальном и в то же самое время метафизическом, что взывает к ритуалам очищения и прямой дорогой ведет нас к идее трагического зрелища?
Конструирование позиции свидетеля в регистре возвышенности, постулируемое Блонским, позволяло приблизить наблюдателя Катастрофы к жертве, позволяло также поместить его в поле травматического события, а тем самым, на мой взгляд, слишком поспешно согласиться с тем, что Катастрофа была невидима или видима лишь фрагментарно. Тем самым многолетнее вытеснение опыта свидетеля, которое началось под конец 1940‐х годов, оказывалось возможным объяснить в категориях действия травмы. А вопрос, была ли Катастрофа видима, оказался, в конце концов, за рамками свидетельствования со стороны наблюдателя… Поэтому можно считать, что то, что позиция польских свидетелей Катастрофы стала рассматриваться в возвышенном регистре, было попыткой бегства. От попыток сакрализовать опыт свидетелей Катастрофы предостерегал в том же самом 1987 году Роман Зиманд, протестуя против прививаемого в это время на польскую почву термина «Холокост», чье греческое происхождение указывает на жертву всесожжения: «Я не в состоянии понять, как кому-то могло прийти в голову, что то, что несколько миллионов евреев было пропущено через трубы, могло быть каким бы то ни было жертвоприношением какому бы то ни было богу. В тот самый момент, когда мы входим в семантическое поле жертвы , мы автоматически возвышаем убийцу в статус жреца, а равнодушного зрителя убийства в статус участника ритуала» [43] Zimand R. Piołun i popiół (Czy Polacy i Żydzi wzajem się nienawidzą?). Warszawa: Biblioteka Kultury Niezależnej, 1987. S. 22. По вопросу споров, касающихся термина «Холокост», см.: Adamczyk-Garbowska M., Duda H. Terminy Holokaust, Zagłada i Szoa oraz ich konotacje leksykalno-kulturowe w polszczyźnie potocznej i dyskursie naukowym // Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. T. 3. Red. Krzysztof Pilarczyk. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich, 2003. S. 237–253.
. Зиманд точно указал на склонность польской культуры ритуализировать исторический опыт и поддерживать иллюзию очистительных ритуалов. Можно добавить, что это искушение было очень сильно в польском театре, а к явлению ритуализации общественного равнодушия нам еще придется вернуться.
Быстро выяснилось, что признать вину — еще не все, хотя, конечно, это необходимо, — здесь Блонский не ошибался. Следовало, однако, еще заново обрести зримость событий прошлого и поместить их в структуру коллективной памяти, под чем в той же степени понималась память свидетелей, сколь и сумма дискурсов, ее поддерживающих, фальсифицирующих или даже вычеркивающих из поля зрения общества. Смотря с сегодняшней перспективы, нужно признать, что чрезмерное приближение друг к другу позиций наблюдателя и свидетеля, которые по-разному переживают травму Катастрофы, не должно быть слишком универсализировано (хотя, конечно, не может быть также и полностью исключено). Оно должно оставаться только одной из возможностей, тем более что польскому обществу через несколько лет после публикации статьи Блонского предстояла конфронтация — в первый раз выразившаяся в столь открытой публичной дискуссии — со своим соучастием в деле Катастрофы.
Напротив, если в треугольнике Хильберга мы приблизим друг к другу позиции свидетелей и экзекуторов, эффект возвышенности неумолимо исчезнет. Вместо него появится нечто, что Ханна Арендт, анализируя позицию немецкого общества по отношению к Катастрофе, назвала «возмутительной глупостью» [44] Arendt H., Fest J. Eichmann war von empörender Dummheit: Gespräche und Briefe. München: Piper, 2011. S. 43–44.
. Ее наблюдения можно распространить и на других — в том числе польских — свидетелей-наблюдателей Катастрофы. Определяя, что она в данном контексте считает глупостью, Аренд ссылается на Канта, на сформулированный им императив «думать, ставя себя на место любого другого человека». Глупостью, таким образом, является «нежелание представить себе, что на самом деле происходит с другим человеком». Никто, пожалуй, не станет отрицать, что такого рода нежелание стало уделом и значительной части польского общества по отношению к преследованиям и уничтожению евреев. Чтобы объять всю амплитуду свидетелей, чье алиби состоит в утверждении, что Катастрофу нельзя было увидеть и что ее нельзя себе представить, приходится кружить между полюсом возвышенности и полюсом глупости, между полюсом травмы и полюсом равнодушия, между позицией жертвы и позицией экзекутора.
Михал Гловинский спустя много лет вспоминал свою поездку из Варшавы в Казимеж, которая имела место во второй половине 1950‐х годов. Ему довелось тогда наблюдать ситуацию свидетельствования , однако эта ситуация была абсолютно спонтанной, никем не контролируемой. Те, с кем он ехал вместе, по преимуществу крестьяне, начали вспоминать годы оккупации. «Воспоминания военных лет относились тогда […] к живой и — хотелось бы сказать — все еще самой свежей памяти». Одна из женщин рассказала об уничтожении евреев в одном из маленьких польских городков, о событиях, чьим свидетелем-очевидцем — и, как утверждает Гловинский, сочувствующим очевидцем — она являлась. «Она рассказывала очень конкретно и образно, не давала волю чувствам, но то, как она переживала и сочувствовала, отпечатывалось в каждом ее слове» [45] Głowiński M. Potęga stereotypu // Głowiński M. Magdalenka z razowego chleba. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2001. S. 151–152.
. Ее рассказ свидетельствовал о том, что Катастрофа была вполне видима для поляков: «Она говорила о расправах, происходивших на улицах, о том, как людей вытаскивали из их укрытия и убивали на месте, наконец, о том, что тех, кто остался, увозили на неминуемую смерть и какими жестокостями и унижениями это сопровождалось» [46] Ibid. S. 152.
. Женщина вспоминала, как евреи, которых заталкивали в вагоны для скота, извергали на своих немецких карателей самые ужасные проклятия. Свой рассказ она закончила неожиданным выводом: «да, уж мстительны эти евреи, мстительны…». «Рассказчица изрекла это свое мнение так, как будто бы забыла обо всем, о чем минуту назад повествовала, как если бы не хотела осознать, в какой ситуации произносились эти страшные проклятия. И сама она стала совсем другим человеком, с ее лица исчезло благородство, появилась злоба, а может быть даже — презрение; в том, что она сказала, звучало ощущение превосходства, которое проявляется тогда, когда о чужаках говорят те, которые считают, что те хуже их по самой своей природе, или попросту их выводит из себя их присутствие» [47] Ibid. S. 153.
.
Интервал:
Закладка: