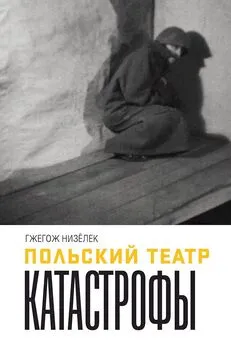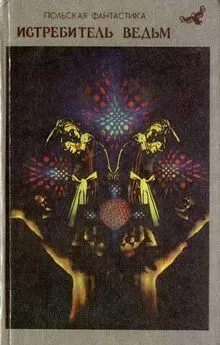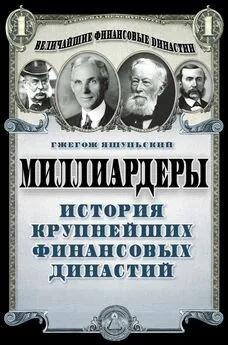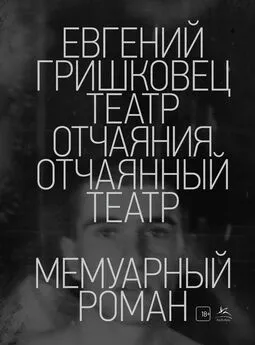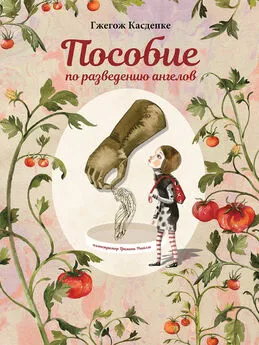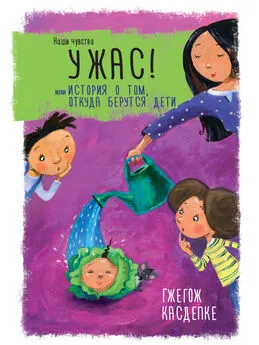Гжегож Низёлек - Польский театр Катастрофы
- Название:Польский театр Катастрофы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Новое литературное обозрение
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-44-481614-1
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Гжегож Низёлек - Польский театр Катастрофы краткое содержание
Книга Гжегожа Низёлека посвящена истории напряженных отношений, которые связывали тему Катастрофы и польский театр. Критическому анализу в ней подвергается игра, идущая как на сцене, так и за ее пределами, — игра памяти и беспамятства, знания и его отсутствия. Автор тщательно исследует проблему «слепоты» театра по отношению к Катастрофе, но еще больше внимания уделяет примерам, когда драматурги и режиссеры хотя бы подспудно касались этой темы. Именно формы иносказательного разговора о Катастрофе, по мнению исследователя, лежат в основе самых выдающихся явлений польского послевоенного театра, в числе которых спектакли Леона Шиллера, Ежи Гротовского, Юзефа Шайны, Эрвина Аксера, Тадеуша Кантора, Анджея Вайды и др.
Гжегож Низёлек — заведующий кафедрой театра и драмы на факультете полонистики Ягеллонского университета в Кракове.
Польский театр Катастрофы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В центре внимания должна оказаться повторяемость ситуации равнодушного или же насмешливого свидетеля («бедного христианина, смотрящего на гетто»), столь хорошо определяющая те принципы, по которым сконструирована позиция зрителя как в театре Ежи Гротовского, так и Тадеуша Кантора. Речь не идет, однако, о повторении определенной модели опыта, о переживании еще раз «того же самого». А о том, чтобы ввести этот опыт — благодаря театру и принципу повторения — в область непредвиденных аффективных последствий. Переживание паралича и шока часто описывалось зрителями «Акрополя» Гротовского и «Умершего класса» Кантора как переживание осязаемо реальное и трудно объяснимое. Гротовский и Кантор относились к зрителю как к свидетелю, ввергали его в ситуацию чрезмерной видимости, доводя до глубокого расщепления реакций (шок и равнодушие, физическая конкретность наблюдаемого акта насилия и невозможность понять, что ты видишь). Между тем Гротовский с самого начала стремился диалектически преодолеть историческую травму: он упорядочивал поле разрывов и конфликтов, проводя спектакль по траектории эмоциональной дуги, в которой зритель переходил от навязанного ему предположения о его равнодушном отношении к чужому страданию к аффектам милосердия и ужаса, идентифицируемым как религиозные переживания. Кантор, особенно до создания «Умершего класса», действовал в противоположном направлении: разбивал любые модели аффективных реакций, запутывал следы, переживание ужаса записывал в комедийных кодах, приводил в действие процессы открытия «необычайного». Гротовский создавал иллюзию акта проработки травмы благодаря силе переживаемого аффекта. Кантор впутывал зрителя в дезориентирующую его систему повторений, в которой возможность проработки опыта прошлого исчезала из поля зрения.
В случае польского послевоенного театра следовало бы говорить не столько о границах репрезентации, сколько о том, в какой мере могли быть прочитаны заключенные в спектаклях свидетельства, — то есть об опыте амнезии, приводящей в действие работу повторения. Механизмы, блокирующие акты правильного прочтения заключенного в них исторического опыта или мешающие этому, были невероятно сложны. Конечно, на этот факт могли повлиять уже и сами по себе те художественные стратегии, которые стремились к сильно метафорическим формам (как у Шайны) или же сознательно делали ставку на то, чтобы разрушить механизмы референциальности (как в театре Кантора). Другим источником такого рода помех в интерпретации были идеологические операции, которым подвергалась коллективная память о войне и уничтожении евреев. Действовали тут как механизмы вытеснения, связанные с ощущением вины равнодушных или враждебно настроенных свидетелей Катастрофы, так и формы аутентичной амнезии (в 1968–1980 годах тему уничтожения евреев почти полностью исключили из школьных учебников; то есть по крайней мере одно поколение было сформировано в условиях полной исторической амнезии). Поэтому невозможно предположить, что художники театра и зрители обладали одним и тем же фундаментом знания и памяти о Катастрофе. Писать о памяти Катастрофы в послевоенном польском театре — это, собственно говоря, значит впадать в явный анахронизм, который не позволит уловить сложной игры между памятью и забвением, знанием и неведением, активизированием памяти и ее выработкой, защитными механизмами и шоком от того, что они оказываются сломаны. Особенно если признать, что термин «Холокост» в той же мере относится к историческому событию уничтожения европейских евреев, сколь и составляет систему сложных, часто внутренне противоречивых правил интерпретации этого события, конструирует разнообразные стратегии позиционирования его в коллективной памяти, формулирует этические заповеди свидетельствования и поднимает вопрос о разнообразных формах репрезентации (в том числе в искусстве) [76] На это обращала внимание Александра Убертовская в предисловии своей книги «Свидетельство — травма — голос», формулируя в то же самое время тезис, что польская культура — это место, откуда «плохо различим» Холокост. Можно добавить, что модальности и формы этого «плохого ви́дения» и сформировали самые значительные явления польского послевоенного театра. Ubertowska A. Świadectwo — trauma — głos. Kraków: Literackie reprezentacje Holokaustu, Universitas, 2007. S. 22–23.
. Польский театр, работающий в течение нескольких послевоенных десятилетий в условиях как избытка, так и дефицита памяти, оказался вне этой историко-идеологической конструкции. Исследования театра, который существует всегда ради конкретной публики в конкретном времени и месте, должны отбросить этический ригоризм такого рода. В противном случае мы рискуем утратить из поля зрения механизм повторения, который для описываемой мною формации польского послевоенного театра имел и продолжает иметь ключевое значение. Александра Убертовская писала, что с перспективы польской культуры Холокост «плохо различим». Можно, однако, этот тезис перевернуть. С перспективы Холокоста (понимаемого прежде всего как форма дискурса об исторических событиях) плохо различима послевоенная польская культура.
Шошанна Фелман вслед за Дори Лаубом, который изучал свидетельства Катастрофы в перспективе своей психоаналитической практики, занялась поисками структур скрытого или вытесненного свидетельства Катастрофы в текстах, которые непосредственно к ней не относились. Под этим углом зрения она проанализировала два романа Камю («Чуму» и «Падение»), а также теоретические работы Поля де Мана [77] Felman S., Laub D. Testimony: Crises of Witnessing in Literature, Psychoanalysis, and History. New York; London: Routledge, 1992.
. Фелман прочитывает метафору чумы у Камю исключительно в негативном смысле: она не ищет аналогии между ситуацией города, пораженного эпидемией заразы, и Катастрофой, а старается указать на изощренную технику укрытия подлинной темы романа. Ни одна метафора не в состоянии вместить в себя историческое событие Катастрофы. Чума, таким образом, выступает в романе Камю не в сильной, универсализирующей функции метафоры, а лишь в слабой позиции метонимического следа, указывающей скорее на беспомощность, невозможность найти литературный эквивалент тому событию, к которому она отсылает. Более того, Фелман утверждает, что исчезновение реальности, которое несет с собой любая аллегория (стремящаяся заменить конкретику общим смыслом), выражает некую истину о характере самого события, на которое аллегория в этом случае указывает. Аллегория делает действительность нереальной — а именно такого рода переживание и было дано наблюдателям Катастрофы.
Фелман формулирует, таким образом, тезис о «событии, лишенном референциальности», отсылая тем самым к тезису Лауба о «событии без свидетеля». Стоит отметить, что Лауб анализировал прежде всего свидетельства жертв и травматический эффект потери реальности, Фелман же занимается литературными свидетельствами наблюдателей Катастрофы, а также распадом нарративной модели истории, поэтому над ее концепцией стоит задуматься в контексте исследования послевоенного польского театра в перспективе памяти о Катастрофе. Фелман объясняет: «Я предлагаю тут исследовать, каким образом история как холокост [history as holocaust] повлияла на те субъекты истории, которые не были ни экзекуторами, ни ее жертвами, самым непосредственным образом от нее претерпевшими, но ее историческими наблюдателями, ее свидетелями» [78] Ibid. P. 96.
. Поскольку невозможно представить себе само историческое событие, свидетель призывает на помощь воображение, но также старается передать ту его — в данном случае основополагающую — черту, какой является собственно «невообразимость». На место исторического факта нужно, таким образом, подставить другой нарратив и обнаружить их взаимную несовместимость. Именно так Фелман рассматривает под увеличительным стеклом текстуальные следы исчезающего события. Например, она приводит такой фрагмент: «Пройдя войну, с трудом представляешь себе даже, что такое один мертвец. И поскольку мертвый человек приобретает в твоих глазах весомость, только если ты видел его мертвым, то сто миллионов трупов, рассеянных по всей истории человечества, в сущности, дымка, застилающая воображение» [79] Камю А. Чума // Камю А. Избранное. М.: Радуга, 1988. С. 119.
. Метафорическая «дымка, застилающая воображение», по мнению Фелман, указывает на реальный дым крематориев, является его текстуальным следом и в то же время — записью самого процесса исчезновения. Остатком визуального образа и результатом работы забвения.
Интервал:
Закладка: