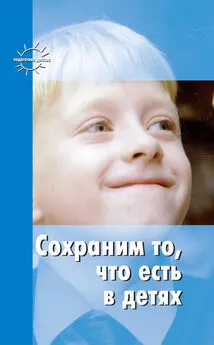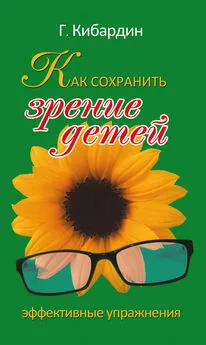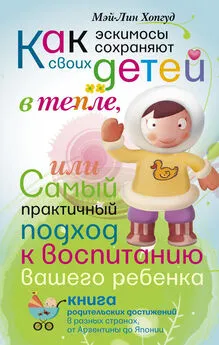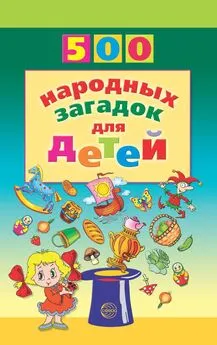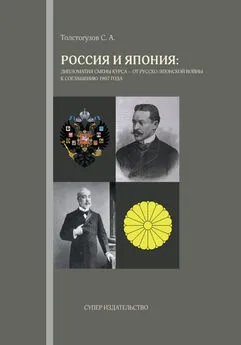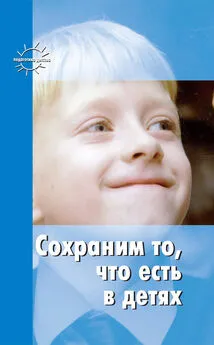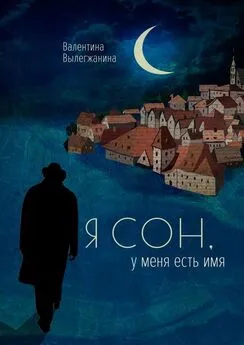Валентина Шацкая - Сохраним то, что есть в детях
- Название:Сохраним то, что есть в детях
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент «Карапуз»80684f87-4d80-11e5-8205-0025905a0812
- Год:2011
- Город:Москва
- ISBN:978-5-904673-56-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валентина Шацкая - Сохраним то, что есть в детях краткое содержание
С.Т. Шацкий и В.Н. Шацкая – выдающиеся русские педагоги, которые жили и работали в условиях революции, Гражданской войны и сталинского режима. В книге представлены фрагменты педагогических трудов этих двух замечательных людей, которые были преданы детям и хотели, чтобы они были всесторонне развитыми личностями.
Все идеи о воспитании построены на научной основе и проверены практикой. Накопленный в процессе исследования, их опыт широко использовался в воспитательной работе с детьми. Он становился основой для создания и разработки научно обоснованных программ воспитания и обучения.
Книга предназначена педагогам дошкольных учреждений, школьным учителям, педагогам дополнительного образования детей, работникам школ-интернатов и гувернерам. Она также полезна студентам средних специальных и высших педагогических учебных заведений.
Сохраним то, что есть в детях - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Ребенок и человек воспринимает только в раздраженном состоянии, поэтому смотреть на веселый дух школы, как на врага, как на помеху, есть грубейшая ошибка Задача учителя… состоит в том, чтобы постоянно давать пищу этому оживлению и постепенно отпускать поводья ему… Но продержите его (ученика – С. Ш.) в таком напряжении, не позволяя ему рассказывать полчаса, он станет заниматься щипанием соседа…
…Обыкновенно вновь пришедший ученик сначала схватывает только вещественную сторону дела и весь погружается в наблюдение… Как в нем распустился цветок понимания и когда, – узнать трудно».
Я думаю, что обычно мы совершенно упускаем из виду эту связь между распусканием, как говорит Толстой, цветка понимания у каждого ученика и духом класса. Понимать в процессе организации занятий, в установлении свободной (внутренней) дисциплины, в возбуждении интереса к делу роль общественной атмосферы, реально образующейся в каждой группе учеников, – значит, овладеть существеннейшей чертой в искусстве преподавания. По-видимому, эта идея весьма часто руководила Толстым в его способе изображать людей на фоне законов того сообщества, которые возникают, действуют при каждой групповой сцене, описываемой писателем.
V
Чему надо учить? Что должно явиться содержанием занятий? Что служит основанием программы? Педагогические опыты Толстого привели его к убеждению, что учение должно быть ответом на разнообразные вопросы, возникающие в жизни детей, что в народной школе исторические, естественные и математические науки сливаются вместе и «вопросы по всем этим наукам ежеминутно представляются».
По отношению к программе, к вопросу, – чему учить? – Толстой в начале своей педагогической деятельности брал то, что ему было известно, и вел занятия по обычным предметам: язык, математика, естествознание, география и т. д. Экспериментируя с ними, он приходит к выводу, что жизненное обучение является гораздо более нужным для детей, чем школьное. Жизненное образование он называет бессознательным, а школьное – сознательным. По его мнению, необходимо, чтобы сознательное шло параллельно, соответствовало бессознательному. Следующая мысль его была в том, что школа должна давать такую программу, которая «нужна народу». Внимательно анализируя требования «народа», Толстой считает основанием программы грамоту и счет, причем в понятие грамоты у него входит и изложение, простое и понятное, главнейших явлений природы. Но в первую половину своих педагогических работ – до 80-х годов – его больше занимают вопросы, как учить и как составлять книги и учебники для детей, чем то, ч е м у учить.»Чему учить» совпало с последним периодом его деятельности, когда вопросы религиозные, нравственного воспитания и тесно связанного с ними воспитания трудового захватили его всецело. Составление азбуки, книг для чтения и арифметики поглотили массу сил. Ему страстно хотелось огромной массе простого народа помочь созданием наиболее удобных для него систем обучения грамоте и счету. Для педагога оба эти труда Толстого представляют величайший интерес своей оригинальностью, простотой и великолепно выдержанной, тонко разработанной системой.
Говоря об «Азбуке» и книгах для чтения, надо обратить особое внимание на язык, которым они написаны. Я думаю, что вообще в русской литературе нет таких изумительных по сжатости и точности, простоте и художественности языка рассказов, как в этих книгах для детского чтения. Для примера можно указать на «Кавказского пленника». В необычайно тщательной работе над языком детских рассказов был для него величайший смысл, который он так выяснял в письме к Н.Н. Страхову:
«От публики я не только не жду суждений, но боюсь, как бы не раскусили. Я нахожусь в положении лекаря, старательно скрывающего в сладеньких пилюлях пользительное, по его мнению, касторовое масло и только желающего, чтобы никто не разболтал, что это лекарство, чтобы проглотили, не думая о том, что там есть, а оно уж подействует…».
Он задумывается над языком и спрашивает: «Не ложный ли прием, не ложный ли язык, которым мы пишем и я писал?»
«Я изменил приемы своего писания и язык, но, повторяю, не потому, что рассудил, что так надобно. А потому, что даже Пушкин мне смешон… а язык, которым говорит наш народ и в котором есть звуки для выражения всего, что только может желать сказать поэт, – мне мил… Захоти сказать лишнее, напыщенное, болезненное – язык не позволит, а наш литературный язык без костей; так набалован, что хочешь мели – все похоже на литературу… Я… просто люблю определенное, ясное и красивое и умеренное и все это нахожу в народной поэзии и языке и жизни и обратное в нашем».
Он советует пропускать все статьи в народном журнале через цензуру дворников, извозчиков, черных кухарок: «Если ни на одном слове чтецы не остановятся, не поняв, то статья прекрасна. Если же, прочтя статью, никто из них не может рассказать, про что прочли, статья никуда не годится».
Перед «Азбукой» Толстой целый год занимался греческим языком до того, что, по его словам, во сне читал по-гречески. Он кончил «Азбуку» и пишет: «Теперь я начинаю новый, большой труд… Я теперь вообще чувствую себя отдохнувшим от прежнего труда и освободившимся совсем от влияния на самого себя своего сочинения… Я берусь за работу с радостью, робостью и сомнениями, как и в первый раз».
Таким образом, та роль педагогики в литературном творчестве Толстого, о чем мне приходилось упоминать выше, здесь находит свое подтверждение.
Педагогические интересы Толстого усилились в последний период его деятельности – общественно-религиозный. Он отчасти приводит в ясность свои прежние мысли, но главным образом разрабатывает вопросы содержания воспитания.
Если раньше он горячо возражал против объединения понятий воспитания и образования, то теперь он их считает неотделимыми. Чему надо учить детей – для Толстого вполне ясно. «Первое и главное знание, которое свойственно прежде всего передавать детям и учащимся взрослым, – это ответы на вечные и неизбежные вопросы… Первый: что я такое и какое мое отношение к бесконечному миру? И второй, вытекающий из первого: как мне жить, что считать всегда, при всех возможных условиях, хорошим и что всегда и при всех возможных условиях дурным?..
Что же касается дальнейших предметов знания, то… весьма вероятно, что первыми, после религии и нравственности, предметами будут изучение жизни людей самых близких: своего народа, богатых, бедных классов, женщин, детей, их занятий, средств существования, обычаев, верований, миросозерцаний. После изучения жизни своего народа… изучение жизни других народов… их религиозных верований, государственного устройства, нравов, обычаев…».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: