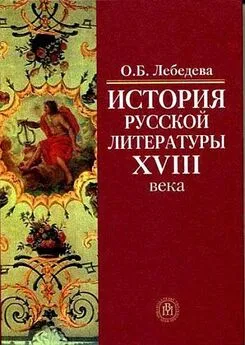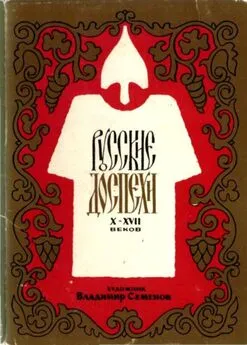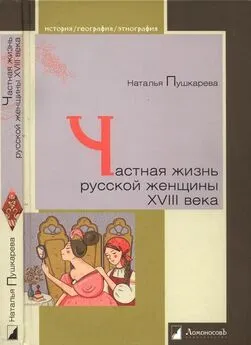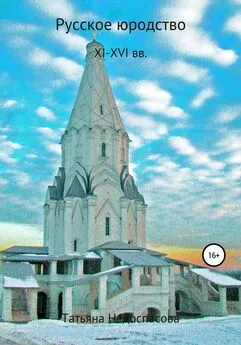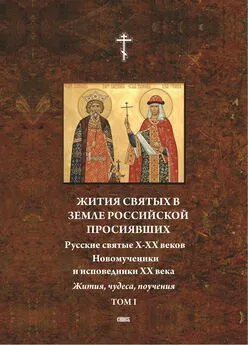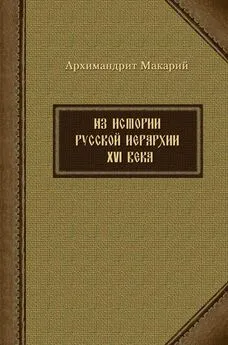Шамма Шахадат - Искусство жизни: Жизнь как предмет эстетического отношения в русской культуре XVI–XX веков
- Название:Искусство жизни: Жизнь как предмет эстетического отношения в русской культуре XVI–XX веков
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент НЛО
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0816-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Шамма Шахадат - Искусство жизни: Жизнь как предмет эстетического отношения в русской культуре XVI–XX веков краткое содержание
Искусство жизни: Жизнь как предмет эстетического отношения в русской культуре XVI–XX веков - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Ироническая двойственность семантики шутливого письма существенно отличает его от письма серьезного с его одноголосой сентиментальностью и документальной правдивостью. Дружеская переписка эпохи сентиментализма [288]имела программное значение, поскольку она содержала идеализированное описание дружбы, возвышенное представление о поэзии и поэте. Так, Василий Пушкин писал Вяземскому:
В прошедший понедельник Американец Толстой давал нам ужин ‹…› До ужина, который был великолепен, мы спорили о литературе; Батюшков сразился с Катениным, и чуть было за тебя не подрались – но шампанское всех примирило, и мы у Толстого просидели до пяти часов утра…
(II, 433, письмо от 8 июня 1818 года).Дружеский круг представляет собой своего рода locus amoenus , эстетический рай, где друзья, обладатели нежных сердец, ведут беседы о высоких, благородных предметах. Альбрехт Кошорке, характеризуя переписку XVIII века, отмечает «заметное потепление атмосферы письменного общения» (Koschorke, 2003, 186) [289]. Однако это потепление не следует приписывать человеческой природе, ибо и «дружеские, порой даже братские отношения участников переписки» (Там же) являются неотъемлемым элементом поэтики поведения, в котором культ дружбы неразрывно связан с обменом письмами. Индивидуальность поэта и коллектив в форме дружеского союза [290] – то и другое складывается на основе и в ходе переписки, питаясь ее образностью и топикой. Претендуя на аутентичность документального свидетельства, письмо нередко выступает вместе с тем как учебник сентиментального поведения и как форма поэтической саморепрезентации ( self-fashioning ) [291].
Участники смеховых актов действуют в особого рода театральном пространстве – смеховом хронотопе, где поэты берут новые имена, облачаются в костюмы (надевают шутовские колпаки) и подчиняют свое поведение шутовским ритуалам, принципиально отличающимся от повседневной жизни. Смена идентичности была призвана оправдывать отклонения от образа идеального поэта, созданного Карамзиным. На собраниях «Арзамаса» смеховые тексты подвергались театрализации и переходили в своего рода перформансы, коллективные акции. Если фиктивное письмо Вяземского следует рассматривать как текстуальную сцену, на которой мир оказывается текстом, то встречи арзамасцев представляли собой сцену реальную, предназначенную для инсценировки смеховых текстов, тогда как протоколы этих встреч вновь переводили инсценировку в письменную форму.
Воспроизводя высокие образцы, арзамасцы практиковали культ предков (Французская академия), соблюдали строгий порядок проведения заседаний, вели официальные протоколы и избирали председателя собрания (как на заседаниях «Беседы»), но все эти ритуалы переключались в шутовской план. Показательна при этом игра с церковными обрядами, например с обрядом крещения. Арзамасцы пародировали его, принимая новые имена, а «Липецкие воды» называя «Липецким потопом», из которого они вышли «новыми людьми» (ср.: Проскурин, 1996, 77). То же относится к обряду евхаристии (ср.: Там же). В конце заседаний члены общества съедали гуся и, называя его «вкусным», намекали на эстетический принцип хорошего вкуса, которому они поклонялись как божеству, что порождало дальнейшую ассоциацию гуся с телом Христовым (Там же, 80). Еще одним элементом арзамасской parodia sacra являлись публичные шуточные исповеди (Арзамас, I, 361 и далее).
Подобно тому как в смеховых текстах арзамасцев иронический подтекст, полисемантизм и омонимия служили для демонстрации тезиса о произвольности знака, их смеховые акты размещались в поле неразличения гетерогенных структур, языковых и логических. Наряду с этим смеховые акты отчетливо обнаруживают карнавальную амбивалентность разрушения и обновления. Участник «Арзамаса» Вигель удачно объединил обе стороны смеховых актов в формуле «забавно и язвительно» (Вигель, 1994, 74) [292]. Смеховой акт забавен в том смысле, в каком забавен карнавал, отменяющий правила повседневной жизни и конвенциональную знаковую систему, чтобы утвердить новую. Так, гусь означает тело Христово, комедия – всемирный потоп, а слово «вкус» выступает в двойном значении, обозначая то вкусовые ощущения, то обожествленный эстетический принцип. Во всех этих случаях смех имплицирует эстетическую утопию, которая возвеличивает поэта, осмысляя его, пусть в шутливой форме, как творца слова. Вместе с тем «забавное» способно обернуться и «язвительным», когда смех становится инструментом агрессии и противника «засмеивают до смерти». В своих воспоминаниях арзамасцы склонны затушевывать агрессию, которая плохо согласуется с их идеалом поэта; ретроспективно шутовство «Арзамаса» рассматривалось ими как способ «умно подурачиться» (Вигель, 1994, 79) или как оплот «нравственного братства» (Вяземский; цит. по: Вацуро, 1994, 5).
Таким образом, смеховые тексты и акты «Арзамаса» были необходимы сентименталистам, с одной стороны, как возможность испытать идею произвольности языка в форме литературной и бытовой игры, с другой же – для того чтобы в форме смеховой агрессии компенсировать те запреты, которые налагала на них идеализированная роль «хорошего поэта». В смеховом мире «хорошему поэту» дозволялось быть злым, но именно и только в смеховом мире, поскольку он был отчетливо отграничен от области серьезного, аутентичного творчества, в котором художник выступал носителем святого вдохновения, поэзия приравнивалась к религиозному действию, а нарушение правил хорошего вкуса рассматривалось как измена идеалу [293]. Так, когда Вяземский избирает предметом своих насмешек Жуковского, то есть переносит агрессию во внутреннее пространство высокой поэзии, Жуковский расценивает это как предательство дружбы: «‹…› Не смейся над тем, что говорю, – я прав. Нежная осторожность, право, нужна в дружбе. Я не должен быть для тебя буффоном; оставим это для Арзамаса; в другие же минуты воображай меня без протоколов» (Арзамас, II, 349 и далее; Жуковский Вяземскому 12 ноября 1818 года). Ограниченность сферы карнавального смеха определенным хронотопом, отмеченная у Бахтина, в точности соответствует практике «Арзамаса».
По сравнению со смеховым поведением Ивана Грозного и Петра Великого позиция «Арзамаса» свидетельствует о значительном смысловом сдвиге: арзамасцы перенесли уничтожающий смех из публичной сферы, в которой властитель демонстрировал свою неограниченную власть над подданными, в сферу частной жизни, то есть доместицировали смех, придав ему характер литературной игры, а формуле «насмешить до смерти» – значение метафоры. Акт расправы с помощью смеха стал литературной практикой и переместился в мир текстов, где политическая и военная лексика продолжала употребляться лишь в метафорическом значении.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: