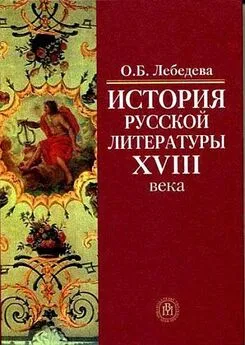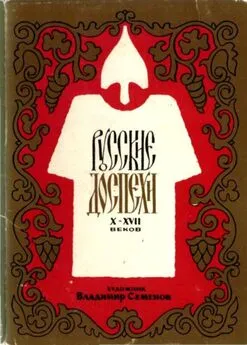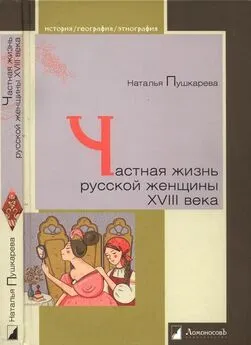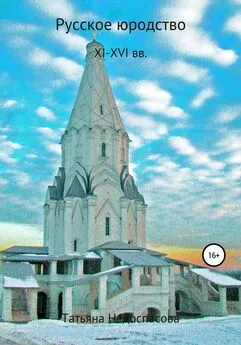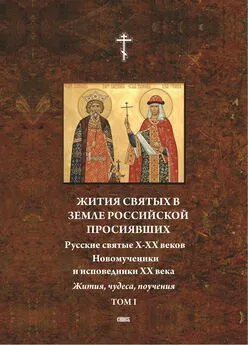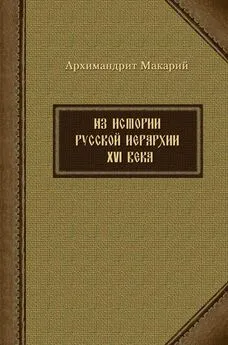Шамма Шахадат - Искусство жизни: Жизнь как предмет эстетического отношения в русской культуре XVI–XX веков
- Название:Искусство жизни: Жизнь как предмет эстетического отношения в русской культуре XVI–XX веков
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент НЛО
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4448-0816-0
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Шамма Шахадат - Искусство жизни: Жизнь как предмет эстетического отношения в русской культуре XVI–XX веков краткое содержание
Искусство жизни: Жизнь как предмет эстетического отношения в русской культуре XVI–XX веков - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Каллиграфия всегда была свободна, и никто никогда не вторгался в ее волшебное царство, где буквы и украшения букв – люди, звери, демоны, чудовища, деревья, цветы и трава – ткутся паутиной росчерков, линий, штрихов и завитушек
(Ремизов, 1991, 46) [334].В области красивого письма царит та же свобода, что и в обществе обезьян.
Литературные сказки Ремизова имеют своим центром обсценное, которое не подлежит вербализации и не получает в них прямого выражения. Corpus delicti скрыт у Ремизова под орнаментом эвфемизмов, и каждая сказка превращается в загадку [335]. В сказке «Царь Додон» тайным центром фабульного пространства является необыкновенно большая вагина царской дочери, для которой ищут соответствующий пенис [336], в сказке «Чудесный урожай» действие сконцентрировано вокруг волшебного пениса, управляемого при помощи слов «ну» и «тпру», а в сказке «Султанский финик» – вокруг пениса султана. Перифраза (например, слово «такое» для обозначения вагины принцессы) замещает обсценный объект его легко заполняемым контуром, который функционирует как своего рода речевая маска, аналогичная поведенческим маскам Ремизова [337]. Комический эффект производят именно незаполненные места; они не только уподобляют сказку загадке, но и напоминают об открытой Фрейдом технике семантического сдвига в остроумных высказываниях и в работе сновидения. По мысли Фрейда, остроты и шутки призваны облегчать бремя культурных нормативов, выступая посредниками между ними и сферой бессознательного («Остроумие в его отношении к бессознательному») [338].
Функция антиповедения Ремизова аналогична функции остроумных высказываний по Фрейду – это способ вырваться из-под гнета нормативного сознания. Эротическая сказка, отмеченная признаками безобразного и обсценного, высвобождает бессознательные инстинкты и одновременно вуалирует их эвфимистической речью. Как и остроумные высказывания, она представляет собой эксцентрическое пространство, проецируемое из центра. По отношению к серьезному миру культурной нормы «обезьяний орден» Ремизова есть мир альтернативный, но не контрадикторный, ибо предполагает не его перелицовку, а выход за его пределы.
Своеобразие смехового сообщества, созданного Ремизовым, заключается в сближении антиэстетики с этикой; их сочетание определяет индивидуальную жизнь как пространство ответственности. Образ юродивого и образ обезьяны сливаются в концепции антиповедения, утверждающего – вопреки дарвинизму – естественность как положительную ценность, которая обещает морально ущербному современному человеку спасительное возвращение к природе. Безобразная внешность Ремизова, его самоинсценировка в образе юродивого, его апофеоз обезьяньего мира как воплощения высшей человечности, его игра с непристойностью как эквивалентом безобразия – все это представляет собой формы и способы отречения от культурной нормы и одновременно утверждения собственной нормы, требующей честности и подлинности. Фундаментальным принципом карикатурной картины мира, созданной Ремизовым, является смех, что подтверждает теорию смеховой контркультуры Бахтина и Лихачева; это смех над духовной нищетой человека, изменившего своей природе, осмеяние его под личиной безобразного, но доброго. В отличие от смеха Ивана Грозного или «Арзамаса», смех Ремизова имеет характер comique absolu , в нем звучит призыв к победе над действительностью и прорыву границ господствующего миропорядка, к достижению «сверхбытия» (Делёз).
1.5. Чинари: «внебытие»
Смеховой мир, который чинари создали посреди официальной культуры сталинизма, – это мир абсурда, призванный опрокинуть логику повседневной жизни и здравого рассудка. В отличие от Ивана Грозного или арзамасцев, создатели этого второго мира мало смеются. Представители позднего авангарда, они выстраивают абсурдный мир из своих разговоров, не удивляясь тем дискурсивным парадоксам и семантическому алогизму, которые мир этот обнаруживает; ведь он лишь верно отражает окружающую их реальность с ее атмосферой политического и метафизического ужаса. Смешным он кажется только издали.
Чинари создали свой антимир в нескольких формах: с одной стороны, в реальном пространстве, где они проводили свои встречи в дружеском кругу, с другой – в виртуальной реальности, которую они выстраивали в ходе своих бесед и в которой жила их мысль. Они совершали путешествия в мир животных, в мир снов или в придуманные Леонидом Липавским метафизические «соседние миры». Абсурд рождался из их столкновения с миром реальным [339].
В середине 1920-х годов под именем «Чинари» сформировался кружок единомышленников, в который входили философы Яков Друскин и Леонид Липавский, поэты Даниил Хармс, Александр Введенский и Николай Олейников [340]. Ситуация дружеской беседы на темы литературы, искусства и философии была для них возможностью отрешиться от «неуютной» и пугающей современности [341]и уйти из мира сталинских фантазмов в собственный мир, открывающий подлинную, по мнению участников кружка, абсурдную суть вещей. Целью чинарей было создание пространства свободы от реальных обстоятельств (Друскин, 1985, 399). Считалось даже, что собрания кружка не следует по возможности проводить в комнате Хармса, так как она казалась его участникам слишком «бытной», то есть заставленной мебелью и бытовыми предметами, которые воспринимались как помеха беседе. «Наши же беседы, – писал Друскин, – были абсолютно свободны и непринужденны. Никакой официальности, никаких заранее выработанных планов или программ» (Там же, 400).
Альтернативные миры, рождавшиеся посредством общего свободного разговора [342], представляли собой виртуальную реальность [343]: они существовали «реально», в пространстве быта, а не художественного произведения, имели интерактивный характер, и переход в эти возможные миры не требовал преодоления границы, ибо они воспринимались как равноправные действительности. Интерактивный разговор преображал мысленные миры, делая их виртуальной действительностью, которую собеседники переживали по ту сторону окружавшего их предметного мира, в которую они были властны вносить свои изменения и которая стала в дальнейшем основой их философских и поэтических текстов.
В процессе диалога мысленные миры превращались в языковые, и это соответствовало авангардистской практике «ревалоризации вербального мира» (Hansen-Löve, 1996a, 43) [344], вере авангардистов в возможность его «полагания» как реального воплощения. Проходя через испытание парадоксальной псевдологикой и тавтологией, слово стремится слиться с предметом, чтобы схватить «ничто» [345], свестись к нулю и именно так обрести истинное бытие, стать абсурдной «вещью в себе». Провозглашая центральным концептом своей философии «ничто», чинари лишают знак всякой возможности выражать значение: знак отсылает у них либо к нереферентному миру «ничто», либо к такому миру, который представляет собой «нечто» лишь постольку, поскольку он не имеет субстанции (Смирнов, 1994, 304). Именно концепт «ничто» способствует созданию виртуальной картины мира. В беседах чинарей, касающихся таких предметов, как бытие, время, пространство и смерть, всегда присутствует мысль о разрыве или границе между понятием и его противоположностью, между бытием и «ничто». У Хармса это выражено так: существующее существует лишь в том смысле, что оно не существует (см.: Zakkar, 1995, 136) [346].
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: