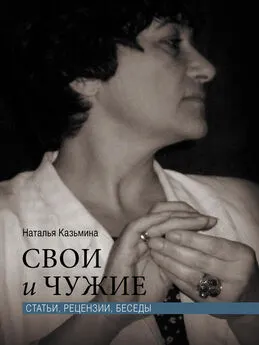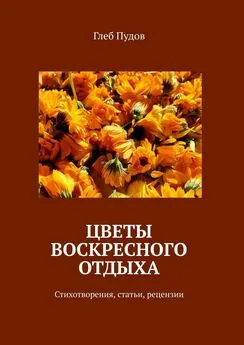Наталья Казьмина - Свои и чужие. Статьи, рецензии, беседы
- Название:Свои и чужие. Статьи, рецензии, беседы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Прогресс-Традиция
- Год:2016
- Город:Москва
- ISBN:978-5-89826-440-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Наталья Казьмина - Свои и чужие. Статьи, рецензии, беседы краткое содержание
Книга рассчитана на широкий круг читателей, неравнодушных к театральному искусству.
Свои и чужие. Статьи, рецензии, беседы - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
«Маленькие трагедии» родились в 1989 году, после возвращения Ю. Любимова и возвращения «Бориса», и тоже в непростой театральной и политической ситуации. «Пир во время чумы» – самый личный на сегодня спектакль Ю. Любимова. Он присутствует в нем на правах лирического героя. Как, впрочем, и Пушкин. Впервые чувствуешь, что сюжеты «Маленьких трагедий», фактически далекие не только от нашей, но даже и от пушкинской поры, пронизаны личными мотивами, современным звучанием. Это личностное начало Ю. Любимов абсолютизирует, окружая, достраивая «Маленькие трагедии» лирическими стихотворениями Пушкина. Он ставит нас лицом к лицу. Он дарит нам близость к Пушкину, живую, а не санкционированную традиционным литературоведением. Он раскрывает нам в мыслях и образах, ритмах и звуках миропонимание Пушкина, его существо, а наше дело – и виждь и внемли – через Пушкина осознавать самих себя. Перед нами не Памятник Пушкина, а Памятник-Пушкина. Кто читал М. Цветаеву, знает, что разница есть.
По словам пушкинистов, Пушкин работал в Болдинскую осень 1830 года, когда и появились «Маленькие трагедии» («нынешняя осень была детородна»), словно итожил прожитое, отливал свою память в «Гималаи работ». «Он готовился к крутому перелому в жизни своей так, как готовятся к смерти: старался дописать все, завершить давние наброски, кончить главное». Для Ю. Любимова и его театра сейчас дописать, досказать, выдохнуть и вдохнуть, кончить давнее, а новое начать – естественное состояние. Первый спектакль после долгой разлуки труппы Таганки и ее лидера (два восстановленных спектакля в данном случае не в счет) – это программная работа, несомненно, открывающая новую страницу любимовского театра.
Длинный стол под черным сукном развернут вдоль рампы. Словно сервирован к тайной вечере или поминальной молитве. «Голубоглазый пунш» лижет стенки высоких бокалов. Белые мертвые лилии на столе, как на гробе. Белый свет делает мертвенно-бледными лица черных фигур за столом. Таинственный монах в капюшоне проходит по сцене, кадя вместо церковных благовоний серой или чем-то там еще, будто силясь сдержать чумное дыхание пространства. Люди за столом в ужасе отшатываются от ночного города, явившегося в щели огромного таганковского окна, прикрывают рты и глаза белыми платками. Сцена угасает, умирает во тьме, тьма расползается, кажется, беспредельно. Грозные аккорды музыки А. Шнитке напоминают гудение и треск чумных костров, красное пламя их будто сжигает проемы окон в кирпичной стене. Скрип невидимой похоронной телеги, которую завороженно провожают глазами герои, походит на пронзительные крики чаек. И грозовое облако Апокалипсиса еще до слов почти материально сгущается над залом.
Однако первые реплики заставляют зал вздрогнуть. «Чума прижала нас, кругом карантины и деться некуда… С нами судьба жестоко обошлась… Был бунт, но, слава богу, обошлось без пушек и кнута… Тяжелые времена. Опасна не чума – уныние царствует. Народ вообразил, что его травят, и перебил лекарей, офицеров, генералов с утонченной жестокостью». И почти сразу вслед за этим А. Демидова – с надрывающим душу, настойчивым, но безответным: «Но не хочу, о други, умирать; я жить хочу, чтоб мыслить и страдать». Зал поеживается. Зал, привыкший к непрошеным таганковским ассоциациям, тем не менее смущается их резкости и откровенности. Зритель, воспитанный в общепринятом формальном восхищении Пушкиным, пришел все ж таки узреть золотое сечение русской литературы, а перед ним рассекают душу и, мрачно ерничая, опрокидывают дивные строки в наш горький день. Зритель уж было настроился разглядывать икону, но ее не повесили. А вместо этого напели – почти намекнули – совсем, казалось бы, недавнее, невинное, из Окуджавы: «А все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеичем… А завтра, наверное, что-нибудь произойдет». На месте цезуры, в пространстве отточия и сыгран этот спектакль. Разве ж это не мы – то святое семейство, что с иронической грустью наблюдает Булат Окуджава? И может быть, оторопь такого открытия и есть первый шаг к ощущению пошлости и суетности нашей жизни и устремлений? Шаг к обретению веры в безверии, покоя и воли вместо ожесточения?
«У нас ведь все от Пушкина», – признавался Достоевский, вкладывая в свое признание вполне конкретный смысл. Мы затвердили это как формулу, как привычку. А тем временем мысль, превратившаяся в молитву, потеряла свой смысл. Мы жили рядом с Пушкиным. Шли рядом, проходили мимо, превращали его в «рудник для эпиграфов» и цитат, как съязвил еще его современник, но мы – воспользуюсь емкой метафорой Андрея Синявского – не гуляли с ним. А уж как попытались совершить эту запоздалую прогулку, были ошиканы и обвинены во всех смертных грехах – в цинизме и легкомыслии, хлестаковщине и кумовстве, в посягательстве на Первую фигуру Первой литературы. «Он бросает рифмами во все священное, чванится перед чернью вольнодумством, а тишком ползает у ног сильных, чтобы позволили ему нарядиться в шитый кафтан; марает белые листы на продажу, чтобы спустить деньги на крапленых листах». Это написано тогда, а не сегодня. И не о Синявском, о Пушкине. Боже мой, все уже было.
Не вдаваясь в ненужный сравнительный анализ творческой манеры писателя Андрея Синявского и режиссера Юрия Любимова (это совсем другая история), скажу лишь, что в одном они сходны. И правы. Они ненавидят памятники и пустые изъявления чувств. Они любят гениального человека во всей полноте и полнокровности его натуры. И откровенны, и чувственны в своей любви так, как можно себе позволить либо с самыми близкими, либо с самим собой – на пиршестве во здравие чумы. Совершенно естественно для Ю. Любимова, что «Пир во время чумы» не только вынесен в заглавие спектакля, но помещен во главу угла композиции. Им окольцованы, сквозь него пропущены все остальные сюжеты. Пир – место действия, время и характер. Чума – его накал. Цепкое, обостренное ощущение жизни в этих, мягко выражаясь, нетривиальных предлагаемых обстоятельствах – вот событие. «Гуляя сегодня с Пушкиным, ты встретишь и себя самого».
Возможно, прежде «Маленькие трагедии» не имели успеха на сцене, выходили осколками какого-то цельного полотна, потому что сюжеты только пристраивались друг к другу автоматически или хронологически. Реконструировались, декорировались, всерьез погружались в эпоху, которая у Пушкина весьма и весьма условна. В «Маленьких трагедиях» ценились прежде всего бенефисные роли, но даже их удачное исполнение не рассеивало чувства, что эти произведения не предназначены для сцены, а может быть, и противопоказаны ей. Ю. Любимов во второй раз после «Годунова» доказал, что наши чувства по отношению к Пушкину часто ошибочны и поверхностны. Он связал «Маленькие трагедии» контрапунктически, и композиционно, и смыслово. Его спектакль как тот магический кристалл, в котором жесткая геометрия линий не отменяет, а подчеркивает их красоту и радужность сияния при свете. Роль света в этом спектакле исполняет музыка А. Шнитке. Возможно, именно поэтому в списке создателей «Пира во время чумы» имя композитора стоит сразу после имени режиссера. Если существует драма для чтения, то почему не может быть и драмы для пения, для речитатива. Драмы, развивающейся по законам музыкальной формы, где музыка определяет ритм и окрашивает тембр, а характер мысли зависим от характера звучания. Мы с удивлением узнаем практически незнакомую музыку, хотя вся она взята из кинофильма М. Швейцера по тем же «Маленьким трагедиям». Но в фильме музыка сопровождала действие, подгримировывая его, и не влияла на общий итог. Спектакль из этой музыки рожден и в ней растворен. В музыкальные темы А. Шнитке вплетается даже плеск брошенного в бокал кольца, даже звон рассыпавшихся монет, как капель времени. Скрип страшной телеги разрывает музыкальные фразы как диссонанс, чтобы затем многоголосию этому влиться в божественное звучание Моцарта, а трагедии разрешиться в мощном церковном хоре. Дальше – тишина.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: