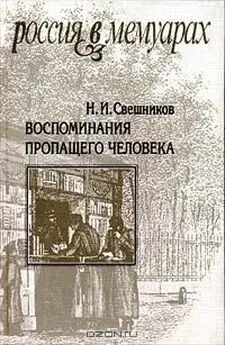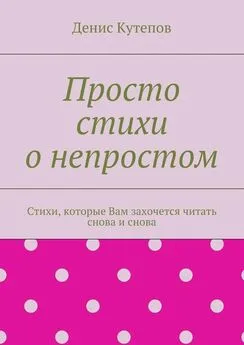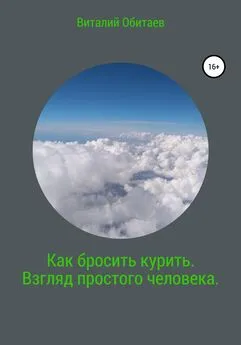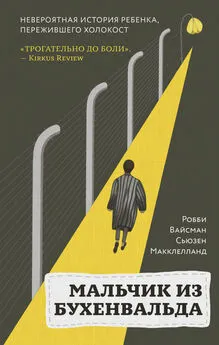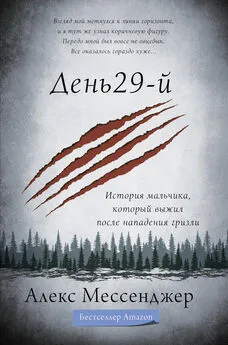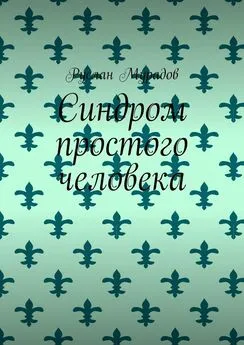Геннадий Чикунов - Я был там [история мальчика, пережившего блокаду. Воспоминания простого человека о непростом времени]
- Название:Я был там [история мальчика, пережившего блокаду. Воспоминания простого человека о непростом времени]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Эксмо
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-04-117134-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Геннадий Чикунов - Я был там [история мальчика, пережившего блокаду. Воспоминания простого человека о непростом времени] краткое содержание
В отличие от многих похожих книг, концентрирующихся на блокаде как событии, «запаянном» с двух сторон мощными образами начала сражений и Победы, автобиография Чикунова создает особый мир довоенного, военного и послевоенного прошлого. Этот мир, показанный через оптику советского ребенка, расскажет современному читателю о том, как воспринимались конец 1930-х годов, Великая Отечественная война, «смертное время» блокады, чего стоила не менее опасная эвакуация и тяжелая жизнь на другом краю Советского Союза.
И, наконец, вы узнаете историю долгого и трудного возвращения в город, где автором этой книги было потеряно все, кроме памяти о личной и общей блокадной трагедии. В формате PDF A4 сохранен издательский макет.
Я был там [история мальчика, пережившего блокаду. Воспоминания простого человека о непростом времени] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Цитата 46:
Как назло, зима 1941–1942 годов оказалась очень суровая, и наша спасительница не могла обогреть всю комнату.
Комментарий:
В январе 1942 года в блокадном Ленинграде минусовая температура достигала -32,1 °C, средняя глубина снега достигала рекордных 41 см. Отсутствие нормального отопления в течение зимы привело к тому, что позже блокадникам казалось, что дома «промерзли». Так, поэт Вера Инбер критиковала фильм «Ленинградская симфония» (1957) за то, что он показал ленинградок «слишком нарядно»: как объясняла Инбер, главной одеждой блокадниц был ватник и даже летом женщины не могли ходить в платьях с короткими рукавами, потому что «здания до того промерзли, пропитались холодом, что в них и летом было очень холодно» (РГАЛИ. Ф. 2217. Оп. 1. Д. 30. Л. 32, 34).
Цитата 47:
Случалось в разгар зимы, входя в квартиру, мы заставали хозяев мертвыми, лежащими в кроватях и в самых неожиданных местах.
Комментарий:
В «смертное время» такие квартиры назывались «выморочными». Следует отметить, что не только горожане, находившиеся в поисках продуктов и топлива, занимались «проверкой» квартир, но и комсомольские бытовые отряды. Первый такой отряд из 80 женщин был создан в январе 1942 года в Приморском районе. С 14 февраля по 19 марта 1942 года этот отряд проверил 5354 квартиры и предоставил помощь 3845 людям. В конце февраля такие отряды появились во всех районах. В «Памятке бойца» указывался следующий перечень обязанностей: «1. Помоги местному активу и управляющему домохозяйством учесть ослабевших и больных жильцов, в особенности в семьях красноармейцев. 2. Организуй доставку воды в эти семьи для приготовления пищи и мытья. 3. Помоги больным приготовить чай и пищу, получить хлеб и продукты в магазине. Помоги получить дрова <���…> 4. Организуй содействие в вызове врача к больному <���…>. 5. Помоги, если требуется, захоронить умерших. 6. Позаботься о получении денег для больных, зарплаты с места работы или пособия <,,>. 7. Устрой детей-сирот в детский дом или ясли». (Цит. по: Яров С. В. Блокадная этика. Представления о морали в Ленинграде в 1941–1942 гг. М.: Центрполиграф, 2012. С. 294–296.)
Цитата 48:
… умывались очень редко, а в бане помылись только весной 1942 года.
Комментарий:
Бани стали открываться с 10 февраля 1942 года. Подробнее – см. комментарий 75.
Цитата 49:
До войны даже в страшном сне нам не могло присниться, что мы будем есть совсем несъедобные растения и предметы. Первое, что нам довелось попробовать из этого перечня, травяные лепешки, пожаренные на олифе. <���…> Вторым «деликатесом» можно назвать столярный клей, которым клеят деревянные изделия. <���…> На рынке в продаже появилась съедобная земля. <���…> По вкусу эта землеподобная масса отдаленно напоминала вкус творога. Говорили, что это перегной от сгнивших овощей с какого-то овощного комбината.
Комментарий:
Дневники и воспоминания блокадников подробно описывают различные эрзац-продукты, которыми приходилось питаться горожанам, поставленным на грань выживания. Среди них – дуранда, кокосовый жир, столярный клей, хряпа, шроты. Дуранда – спрессованный в бруски жмых подсолнечника или льна, из которого делали кашу или запекали своеобразные конфеты. Кокосовый жир – маргарин на основе кокосового масла. Хряпа – самые верхние капустные листья, обыкновенно не идут в пищу: как вспоминала З. А. Игнатович, «даже при длительной варке капустные листья очень жестки и хрустят на зубах». Столярный клей – желатиновый клей из шкур и костей животных, выпускался в виде плиток коричневого цвета. По воспоминаниям Д. С. Лихачева, «варили его, добавляли пахучих специй и делали студень. <���…> Пока варили клей, запах был ужасающий. <���…> В клей клали сухие коренья и ели с уксусом и горчицей. Тогда можно было как-то проглотить». По воспоминаниям Л. Ф. Штейна, иногда «вместо сахара на карточки давали черные «ириски» с землей и мусором, сделанные из сгоревшего сахара Бадаевских складов». (Цит. по: Блокадные эрзац-продукты // Блокада. Свидетельства о ленинградской блокаде. Хрестоматия / сост. П. Барскова. М.: Благотворительный фонд поддержки культурного развития детей «Культура детства»; Издательский проект «А и Б», 2017. С. 267–268.)
Цитата 50:
Пока у людей были силы, они старались похоронить своих близких по-людски, на кладбище.
Комментарий:
В своей книге «Блокадная этика» историк Сергей Яров описывает, насколько стремительной оказалась деградация похоронных ритуалов в «смертное время». Массовая гибель ленинградцев началась в середине декабря 1941 года. Уже в середине января 1942 года похороны в гробах почти прекратились. На кладбищах мертвых могли вовсе не хоронить, а только сбрасывать в траншеи. Очень часто на улицах можно было найти брошенные трупы, которые просто запеленали в простыни, – горожане называли их «пеленашками», а когда тела не убирали и те покрывались снегом, называли их «подснежниками» (см.: Яров С. В. Блокадная этика. Представления о морали в Ленинграде в 1941–1942 гг. М.: Центрполиграф, 2012. С. 184–186). Следует подчеркнуть, что в «смертное время» горожане могли не хоронить родственников не только по причине отсутствия сил и средств на гробы, но и по прагматическим соображениям, так как живым оставалась продовольственная карточка покойного, о котором они не заявляли в правоохранительные органы. Это привело к тому, что к весне 1942 года в ленинградских квартирах скопилось огромное количество трупов. Такая ситуация вызвала страх у руководства города, опасавшегося массовой эпидемии, – таким образом, уже с 7 февраля 1942 года милиционерам было запрещено забирать продовольственные карточки умерших, и те оставались у их родственников на месяц.
Цитата 51:
Фактически мы жили на кладбище: покойники в парадном, наматрасники с покойниками вокруг дома. Только от голода, если верить опубликованным цифрам, в декабре умерли 52881 человек, в январе и феврале 199187 человек. Но это цифры официальные. На самом деле сделать такие арифметические подсчеты в этом аду было непросто. До сих пор идут споры о том, сколько погибло в блокаду мирных жителей, но так и не пришли к единому знаменателю. Называются цифры от 632 тысяч до двух миллионов.
Комментарий:
В начале Великой Отечественной войны в Ленинграде проживало порядка 3 млн человек, и речь о гибели горожан, будь то 600 тысяч или полтора миллиона, в любом случае производит впечатление колоссальной потери. Точное количество погибших в блокаду Ленинграда и во время эвакуации остается камнем преткновения в политических и историографических дискуссиях вплоть до сегодняшнего дня. Впервые число погибших было озвучено на Нюрнбергском трибунале, где советской стороной указывалось, что за время блокады Ленинграда в городе от обстрелов и бомбежек погибло 16747 человек, было ранено – 33782, а погибло от голода – 632 253. В известной статье историков блокады В. Ковальчука и Г. Соболева «Ленинградский «реквием» (1965) авторы использовали новую методику подсчета и заявили, что цифра существенно занижена: в действительности в Ленинграде погибло не менее 800 тысяч человек, а учитывая близлежащие к городу оккупированные территории – более 1 миллиона. Эта информация вызвала возражение со стороны Дмитрия Павлова, одного из первых историков блокады и по совместительству министра торговли СССР, который, опасаясь обвинений в собственной некомпетентности как историка, добился запрета на упоминание в литературе любой другой цифры погибших, кроме той, что была озвучена на Нюрнбергском процессе. Во время перестройки и в постсоветское время озвучивались цифры вплоть до 1,5 млн погибших. Начиная с 1990-х годов историки блокады стали возлагать ответственность за столь высокую смертность не только на немцев, но и отчасти и на советское партийное руководство, совершившее ряд больших ошибок в вопросе снабжения города и эвакуации жителей. (Подробнее см.: Воронина Т. Помнить по-нашему. Соцреалистический историзм и блокада Ленинграда. Москва: Новое литературное обозрение, 2018. С. 175–196.)
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Геннадий Чикунов - Я был там [история мальчика, пережившего блокаду. Воспоминания простого человека о непростом времени]](/books/1060620/gennadij-chikunov-ya-byl-tam-istoriya-malchika-pere.webp)