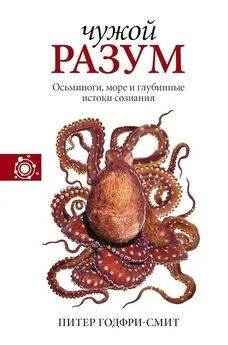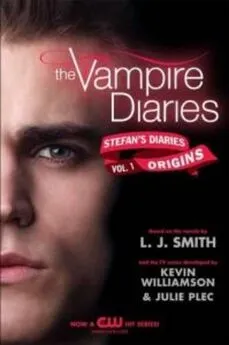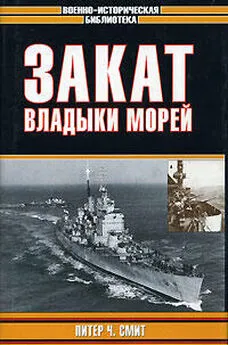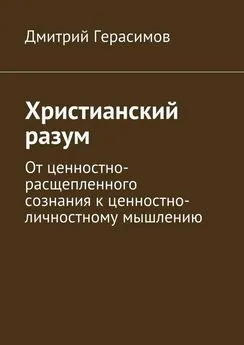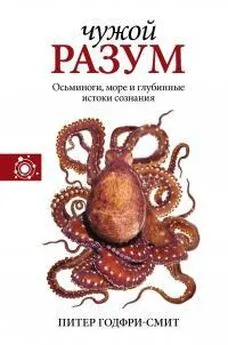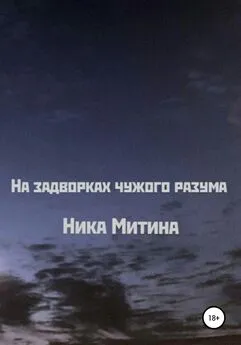Питер Годфри-Смит - Чужой разум. Осьминоги, море и глубинные истоки сознания
- Название:Чужой разум. Осьминоги, море и глубинные истоки сознания
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2020
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-113538-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Питер Годфри-Смит - Чужой разум. Осьминоги, море и глубинные истоки сознания краткое содержание
Чужой разум. Осьминоги, море и глубинные истоки сознания - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Существование эпизодической или квазиэпизодической памяти во всех этих группах — млекопитающих наподобие нас, птиц и каракатиц — впечатляющий пример почти наверняка независимой эволюции параллельно в различных линиях. Не знаю, пробовал ли кто-нибудь проводить такие опыты с осьминогами, и не знаю, как бы они справились с этим заданием. Работа Жозе-Альв демонстрирует достаточно сложные когнитивные навыки у десятиногих, мозг которых эволюционировал достаточно независимо от мозга осьминогов. Иными словами, это свидетельство параллельной эволюции интеллекта внутри линии головоногих. Это подкрепляет гипотезу о том, что возникновение сложной нервной системы у головоногих было не случайностью. Она не была разовым «изобретением», которое затем сохранилось с некоторыми вариациями в двух различных линиях. Скорее одно усложнение нервной системы имело место в линии осьминогов, а второе — параллельно, у других головоногих.
Соотношение между осьминогом и каракатицей напоминает соотношение между млекопитающими и птицами. В линии позвоночных расхождение около 320 миллионов лет назад привело к млекопитающим и птицам, и в обеих ветвях возник большой мозг при несколько различном строении тела. В линии головоногих и осьминог, и каракатица имеют план строения тела моллюска, но расхождение между ними почти такой же исторической глубины, и у них тоже параллельно развился большой мозг.
Древо может быть представлено так:
Фрагмент «Древа жизни»:На этом рисунке показаны некоторые из эволюционных развилок, упомянутых в книге. Длина «стволов» между развилками не отражает временной масштаб, и на рисунке представлены группы совсем неодинакового размера. Млекопитающие и птицы — крупные по численности видов группы, тогда как две группы головоногих по обе стороны от развилки гораздо более малочисленны. (К тому же птицы и млекопитающие образуют отдельные классы , а все головоногие входит в один и тот же класс.) Членистоногие справа составляют целую филу , куда входят насекомые, ракообразные, пауки, многоножки и др. Многие группы на схеме не представлены: например, если бы там были дождевые черви, они бы оказались в промежутке между «прочими моллюсками» и членистоногими, отколовшись от короткого ствола, ведущего к моллюскам. Морские звезды оказались бы слева, рядом с позвоночными. «Рыбы» не составляют единой ветви. Большинство рыб относятся к крайней левой ветви, но некоторые, например латимерия, располагаются на ветви, которая ведет также к человеку и птицам.
Головоногие играли роль крупных хищников с древнейших времен. Примерно 270 миллионов лет назад одна из групп головоногих разделилась — вероятно, вскоре после того, как они вступили на путь решительного отказа от внешней раковины. По крайней мере в двух линиях независимо появились развитые нервные системы. Головоногие и умные млекопитающие — независимые эксперименты по эволюции психики. Подобно млекопитающим и птицам, осьминоги и каракатицы, о которых идет речь в этой книге, представляют собой разновидности эксперимента в рамках эксперимента более высокого порядка.

Океаны
Психика возникла в море. Водная среда сделала возможной ее существование. Все ранние стадии процесса проходили в воде: зарождение жизни, возникновение животных, эволюция мозга и нервной системы, появление сложноорганизованного строения тела, благодаря которому иметь мозг становится выгодно. Первые вылазки на сушу состоялись, вероятно, вскоре после того промежутка истории, который описан в первых главах, — как минимум около 420 миллионов лет назад, а может быть, и раньше. Но ранняя история животных — это история морской жизни. Когда животные выползли на сушу, они взяли море с собой. Все основные жизненные процессы происходят в наполненных водой клетках, окруженных мембранами, микроскопических контейнерах, чье содержимое — не что иное, как реликты моря. В главе 1 я писал, что встреча с осьминогом — наиболее близкий аналог встречи с разумным пришельцем. Но он не совсем пришелец — мы оба создания планеты Земля и ее океанов.
Свойства, сделавшие море столь продуктивным для возникновения жизни и разума, для нас обычно невидимы. Они работают на микроуровне. Море с виду не меняется, когда мы на него воздействуем, — тогда как, например, порубка леса являет собой зримый и несомненный факт. Когда в море сбрасывают отходы, кажется, что они просто уплывают или растворяются. В итоге острота экологических проблем в океанах часто недооценивается, а меры, которые мы могли бы принять для их спасения, редко дают непосредственные наглядные результаты.
Иногда результаты нашего воздействия заметны, стоит только заглянуть ниже поверхности воды. План этой книги я начал обдумывать в 2008 году. Я купил маленькую квартирку в Сиднее, поблизости от побережья, чтобы жить там, когда в Северном полушарии летний сезон. Как и на всем побережье в обе стороны от Сиднея, на этом участке долго вели хищнический вылов рыбы, и на заре нового тысячелетия эти воды почти опустели. Но в 2002 году одна маленькая бухточка была объявлена морским заповедником, где вся фауна стала охраняемой [208]. Через несколько лет она кишела рыбой и другими животными, и там я встретился с головоногими, которые вдохновили меня написать эту книгу.
Эффективность заповедников обнадеживает, но океану угрожают крупномасштабные бедствия. Хищнический вылов — самое очевидное из них: все, что плавает, чаще и чаще без разбору сгребают в трюмы сейнеров. На наши возможности изменить что-то накладывают ограничения не только алчность и конфликт интересов, но и трудность в оценке проблемы и понимании собственных разрушительных потенциалов. Море с виду не меняется после того, как сейнеры ушли.
В конце XIX века, после выхода «Происхождения видов», важнейшим сторонником Дарвина среди ученых был Томас Гексли, сам пользовавшийся репутацией ведущего биолога. К середине столетия рыболовецкие компании Северного моря стали задаваться вопросом, не истощаются ли рыбные ресурсы, и Гексли пригласили в качестве эксперта [209]. Он объявил, что беспокоиться не о чем. Он провел некоторые элементарные подсчеты продуктивности моря и доли изымаемой рыбы и в докладе 1883 года вынес заключение:
Полагаю, можно утверждать с уверенностью, что при современных методах рыбной ловли многие ресурсы важнейших промысловых видов, таких как ресурсы трески, сельди и скумбрии, неистощимы.
Его оптимизм оказался катастрофической ошибкой. Уже через несколько десятилетий многие из перечисленных рыбных ресурсов, особенно треска, оказались под серьезной угрозой [210]. За свою самоуверенность Гексли приобрел дурную славу. Нельзя сказать, чтобы совсем уж незаслуженно, однако его хулители упускают из виду (иногда сознательно) несколько слов в приведенной мною роковой цитате: «при современных методах рыбной ловли».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: