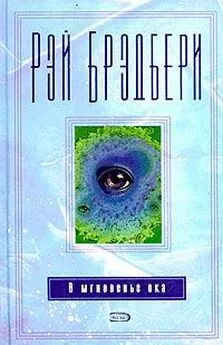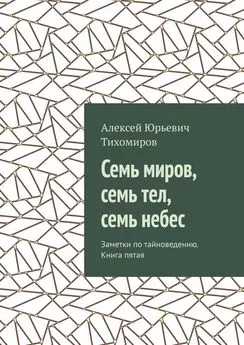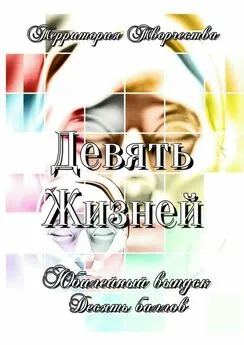Тамара Илатовская - Семь баллов по Бофорту
- Название:Семь баллов по Бофорту
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Мысль
- Год:1969
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Тамара Илатовская - Семь баллов по Бофорту краткое содержание
Семь баллов по Бофорту - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Петр Краснояров исчислял свою родословную чуть ли не с XVII века, когда первые казацкие кочи, без единого железного гвоздя, конопаченные мхом, под парусами из оленьих шкур, стали бороздить безлюдные воды нижней Колымы и ближайший морской «рассол». Для сбора государева ясака оставались по рекам Анадырю и Колыме небольшие казачьи отряды, защищавшиеся от немирных жителей бревенчатыми стенами острогов. Жили сборщики податей голодно и сурово, томились по родным деревням, где весной вишни в цвету, а по осени золотеют от душистых плодов бахчи. «А те наши товарищи, живучи у государевой казны и у аманата, помирали голодной смертью, — писал в своей докладной небезызвестный Семейка Дежнев, — кормились корою кедрового, а что было небольшое место свежей рыбы и то пасли и кормили помаленьку государева аманата, чтобы ему с нужы оцынжав не помереть…» От голодной жизни и тоски роднились казаки с местным населением: юкагирами, эвенами, пленными чукчанками. И пошло от них на Колыме племя «смешанцев», своеобразный «койымский найод», промышлявший в основном рыболовством, а в трудные весенние дни, когда рыбные запасы — гоноши истощались, прикармливавшийся у своих гостеприимных родственников-оленеводов. Сестра Петра Красноярова, третья из пятерых детей, в одну из таких голодных весен вышла замуж за оленного чукчу. Сначала скучала по деревянному дому и печке, плакала, не в силах усмотреть за кочующим своим хозяйством, где каждую неделю надо было свертывать ярангу и, грузя всю утварь на нарты, переезжать на другое пастбище, страдала от холода, и, не выдержав, наконец, сбежала в первое же лето. По летней тундре только и бежать — догнать нелегко, да и следов не остается. Но потом беглянка вернулась, и прожили они с мужем дружно, как пара ворон, почти сорок лет. Колхоз лет десять назад построил им деревянный дом, они ни в чем не знали нужды, только не было детей, как во многих русско-чукотских семьях.
Сам Петр долго не женился. Беспокойный, дикий, в казаков-прадедов, оказался у него нрав. Мальчишкой любил он выезжать вместе с отцом на тоню, когда с приходом лета начинался обильный рыбный «промусол», любил выметывать сети с неустойчивой лодки — ветки и, возвращаясь усталый, смотреть, как курится над заимкой дымок, и самому разводить в сумрачном своем летовье огонь. Но потом он соскучился на тихих Колымских берегах, где знал уже каждый прилук, каждую сопку, или камень, как говорят на Колыме. В семнадцать лет Петр подрядился в помощники пожилому кавралину — торговцу из приморских чукчей, колесил с ним по стойбищам и поселкам, увязывал нарты, таскал мешки с мукой и сахаром, считал патроны, укладывал выменянную пушнину, моржовые шкуры и кость. Но скоро опротивел ему зажиревший кавралин, нагло обманывавший своих же земляков-зверобоев. Напившись сердитой воды, как называли чукчи водку, вероломную помощницу кавралина, Петр набил своему хозяину морду и остался в Наукане — охотиться на морского зверя. Эскимосы, как чайки гнездившиеся на скалистом уступе, приняли его не очень охотно. Их удивлял этот странный горбоносый человек, не хотевший жить, как все русские. Однако не знающее оговорок гостеприимство приморских жителей открывало перед ним двери любой яранги. У Петра был винчестер 45,70 калибра, завезенный на Чукотку бородатыми американскими китобоями. К тому же со своей широченной грудью и сильными руками он был незаменим как гребец. Три года выходил Петр с эскимосами на морскую охоту. Жил в яранге, зарос бородой, ел моржатину и нерпичий жир, летом носил штаны из оленьей ровдуги и нерпичьи торбаза, зимой пыжиковые штаны, кухлянку и теплые торбаза — плекты. Сильно отросшие волосы подхватывал, как чукчи, ремешком и, лишь когда замерзало море, надевал на голову лохматый волчий шлык. Эскимосы привыкли к Петру, слушались его советов, но своим в Наукане он так и не стал. Когда в поселке Лаврентия русские затеяли строительство культбазы — несколько деревянных домов, школу-интернат, больницу, Петр охотно подался туда. Вспомнил плотничье дело, которому выучил его когда-то отец, стучал топором. Но как пришло лето, стал все чаще выходить на плоский галечный берег залива, заваленный углем, смотрел, как светит невидимым мореходам маяк. Где-то глухо и вольно шумело море. С последним пароходом Краснояров уехал во Владивосток. Оттуда с группой вербованных он отправился на Командорские острова и несколько сезонов добывал драгоценных котиков. Потом снова вернулся во Владивосток и прибился к первой советской китобойной флотилии «Алеут», недавно прибывшей из Ленинграда. Однако и на «Алеуте» он долго не задержался. Погоня за китом, столь рискованная и хитрая на байдарах из моржовых шкур, показалась Петру здесь, на быстроходных катерах с гарпунными пушками, жестоким, неинтересным убийством. Постояв по пояс в китовой крови, пропахнув до костей амброй и потрохами, Петр заскучал по тихому рыбацкому поселку, где на ветру сохнут сети, а зимой на подоконниках расцветает в бутылках болотный вереск.
Он бросил якорь где-то неподалеку от устья Колымы и вскоре стал известен на ледовитом побережье как отличный охотник на тюленя и моржа.
В марте, когда тюленьи самки рожали на плавучих льдинах беспомощных черноглазых зеленцов, Краснояров и двое его дружков отправлялись в рискованный путь на север — будь то ведро или пурга. Через неделю сосунки-зеленцы превращались в белоснежных бельков, шкурка которых, покрашенная в коричневый цвет, так напоминает прославленного калана. С погодой считаться не приходилось: минет две недели, и нежный белек превратится в жирную, неподвижную хохлушу с ее жесткой, как у взрослого тюленя, короткой шерсткой. Вот почему, едва наступали белые ночи и полярные медведицы выбирались из родильных своих берлог, сильная собачья упряжка уносила лодку охотников к краю берегового припая, достигающего здесь не одного десятка километров. Охотники брали с собой, кроме лодки, лишь запасную меховую одежду да немного еды. Женщины, выходя из домов и яранг, жалостно смотрели им вслед. Это была очень опасная охота, некоторые так и не возвращались назад: ветер с материка далеко угонял льдины в океан, и люди гибли от голода и мороза. Правда, иногда, уже оплаканные и причисленные к погибшим, они вдруг объявлялись на следующее лето: в лоскутьях, полубезумные от голода, добирались с какого-нибудь дальнего мыса, куда их вынесло ветром.
Краснояров рассказал нам об одной такой охоте. «Меня считали неплохим охотником, — начал он, раскуривая очередную цигарку из махры. — Страх никогда не касался меня, но тогда, видно, сердце мое дрогнуло и с тех пор болит по ночам».
Это было, как всегда, в середине марта. На дрейфующих льдинах стали появляться бельки. Погода была неустойчивой. То обжигающий щеки полунощник приносил прозрачную ясность, то воздушные потоки с материка наплывали непроглядным свинцовоночьем. Они отправились в путь рано утром: Петр, его дружок еще по Командорам Федор и крепкий, жилистый старик Терентий, который после встречи с медведем был хром, но зато лучше всех в поселке знал, когда изменится ветер и будет ли на будущий год много моржа и морского зайца. До края берегового льда их провожал старший внук Терентия Терентий-рыжий, возвращавшийся потом с упряжкою в поселок. Старик Терентий, как и Федор, был родом с Мезени и сызмальства кормился рыбой и рискованным промыслом по льду. Ходили оба равно легко, перебегая со льдины на льдину так ловко, что иному со стороны могло показаться, что идти по плавучему льду занятие интересное и даже приятное. Однако стоило новичку-промышленнику выйти на единоборство со льдом, как тот волчком начинал выворачиваться из-под ног, накренялся, скользил, разбегался, ширя разводья. Те, что поосторожнее, тут же кидались плашмя на лед и терпеливо ждали подмоги. Упрямцы платились купаньем в стылой, тяжелой воде, судорогой сводившей тело. И все-таки только упрямцы, наперекор всему, покоряли лед.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
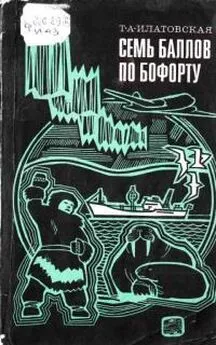

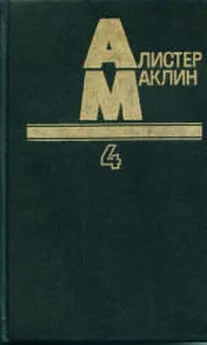
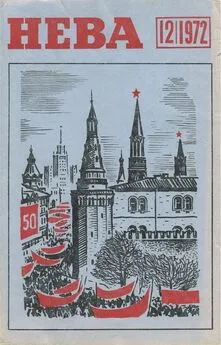
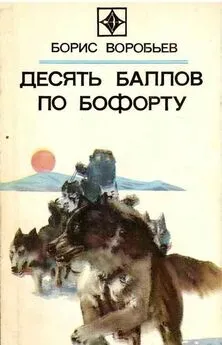

![Тамара Пикулина - Семь миров: Оракул [СИ]](/books/1066103/tamara-pikulina-sem-mirov-orakul-si.webp)
![Тамара Пикулина - Семь миров: Импульс [СИ]](/books/1066104/tamara-pikulina-sem-mirov-impuls-si.webp)