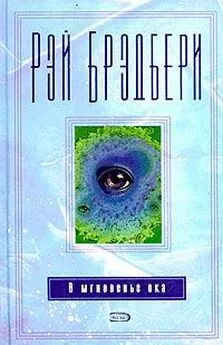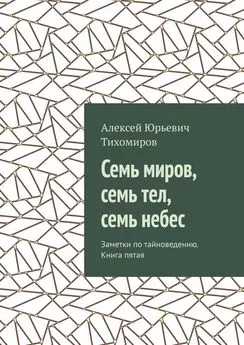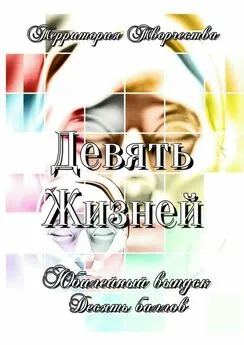Тамара Илатовская - Семь баллов по Бофорту
- Название:Семь баллов по Бофорту
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Мысль
- Год:1969
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Тамара Илатовская - Семь баллов по Бофорту краткое содержание
Семь баллов по Бофорту - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
«Рябошапка — мужик хороший, строгий, к человеку со всем уважением, — говорили нам ребята-прибористы. — Только один и держит. Уйдет — побежит народ с Карали».
Нервами, здоровьем, упрямством вытягивает Рябошапка Караль. Компрессоров не хватает, нормы бестолковые, золото «не отходит». А он тянет. И ведь может надорваться человек. Не пора ли помочь ему? Достать злосчастные компрессоры, пересмотреть нормы, установить истинное содержание золота в песках. Прошло ведь время, когда человек был единственным резервом роста золотодобычи.
Бородач на полигоне говорил: «Головы надо кое-кому пооторвать». Наверное, действительно надо. Кустарщина, бестолковость, сезонщина заедают прииски. До смешного устарели промывочные приборы. Гидроэлеваторы, на которые возлагалось столько надежд, вышвыривают без всякой жалости гордость чукотских приисков — крупные самородки. Может, все-таки пора собрать группу талантливых инженеров — а вдруг (чем черт не шутит!) возьмут или и придумают что-нибудь поумнее древнего промприбора, поаккуратнее гидроэлеватора? Синхрофазотрон придумали, «Огру» придумали, может, и для золота что-нибудь придумают?
Синеет воздух, налитый в долину Каральваама. И от итого тихо становится на душе. В домиках загораются красные и желтые оконца. Хорошо ли здесь жить? Ходить на полигон по мерзлой, дикой тропе, варить на плитке нехитрый обед из оленьего бока, а вечером смотреть кино в длинном дощатом клубе.
Мы расходимся по общежитиям. И мужском пахнет табаком, разбросаны по столу и тумбочкам «Техника — молодежи» и «Смена». Шофер в мятой кепке, сидя на разостланной постели, рассказывает, как в разгар зимника запоролись они с машинами (полопались от мороза баллоны) и тайком угнали из гаража заспавшуюся «пожарку» и как таскали их потом за это «мордой по песку», но «пожарка» успела-таки поработать. Парень рассказывает и косится на чайник, приветливо похлопывающий крышкой. Побалуются чайком — и спать.
В женском общежитии пахнет деревенской избой. Этот кисловатый, домашний дух привезла сюда из Кировской области вместе с ситцевыми цветастыми занавесками новая уборщица тетя Поля. По стенам над кроватями цветные фотографии хозяек, подкрашенные щедрым ретушером. На тумбочках кремы, зеркальца на косолапых ножках, затрепанная книжка про шпионов. Усталые от работы, с морозными щеками, похлебав наскоро щец, девчата бегут в кино. А потом, ночью, долго переговариваются вполголоса, посмеиваясь и сердясь, о героях картины к о своих ухажерах. Все они ходит на волосок от замужества, возбужденные и деланно-капризные. Девушек здесь совсем мало, конкуренция отсутствует, успехом, очевидно, пользуются все. Я смотрю на девчат исподтишка; они уверены, что не разбудили меня своей воркотней, и пробую представить, как они чувствуют себя здесь, на далеком чукотском прииске, давит ли их эта белая долина? Тоскуют ли по Большой земле? И мне кажется, что нет — не давит, не тоскуют. Сейчас Чукотка, пожалуй, доступнее глухого приуральского села, из которого приехала тетя Поля. Совсем не то, что десяток лет назад, когда невыносимо жестокой казалась Колыма, а Чукотка — а вовсе пустыней.
— Пятнадцать лет домой вырваться никак не мог, — рассказывал Рябошапка. — Сколько в Дону воды утекло! Уехал мальчишкой — приехал мужик-мужиком, свой сынище уже, Володька. Наш поселок Горбачево-Михайловское километрах и восемнадцати от Донецка. Сел я на местную «кукушку», смотрю в окно — будто каждая тропочка знакомая. Едем потихоньку, женщины смеются, подсолнухи лущат, какого-то Прохора все вспоминают. А я смотрю в окно — и слезы градом. Будто всю жизнь заново прожил. Вышел из поезда — колени дрожат. И узнаю вроде все, и не узнаю ничего. Деревья выросли, дома новые. Тут сестра подбежала, на шее повисла. «Ой, Николка, — кричит, — братик мой, узнать тебя не могу!» Домой подходим — соседка выбежала, тоже в слезы, «Вот, говорит, вы и дождались своего, а мне своих уж не дождаться». У нее три сына погибли. Война между нами прошла. Моих сверстников в поселке человек сто семьдесят было — уцелело трое. У меня самого два брата погибли. Макар совсем возле дома: не хотел немцам поселок отдавать. А я к отцу вроде бы из плена вернулся. Страшенной казалась Колыма — край спета. Через час человек триста к дому понабежало — посмотреть живого колымчанина. Некоторые про своих расспрашивали, не видел, не встречал ли. Многих загнала тогда судьба на Колыму. А люди песню помнили: «Оттуда возврата уж нету…»
Через несколько дней мы уехали с Каральваама. По дороге в Билибино нам встретилась зеленая «коробочка» с детьми — из школы. Шофер «коробочки» помахал нашему рукой. Мы остановились. Мальчонка и собачьем треухе высунулся из кузова:
— Дядя Володя, я тапочки в школе забыл!
— Эх ты, растяпа! — крикнул ему наш шофер. — Ну, ладно уж, захвачу!
И мы снова затряслись по мерзлым ухабам. Морозный ветер пощипывал щеки.
Куда ты уведешь нас в следующий раз, крутая тропа билибинских геологов?
О КРАБАХ, ИСТОРИИ И АЭРОПОРТАХ
В Билибино по соседству со мной жили девчонки-геологи из Москвы. Они попали на Чукотку сразу после института и впервые переживали тревожно-радостное, неуютное чувство самостоятельности. Мы брали у них то чашки с тонкой розовой полосочкой по краю, то чайник, то чайные ложки, когда надоедало размешивать сахар широким охотничьим ножом. Это было женское общежитие, но нелегально в нем обитали вернувшиеся с поля геологи-мужья. Басовитые голоса нелегалов под тихие переборы гитары напевали по вечерам грустные песни геологических трубадуров.
За окном был чистый, свежий снег. На беленой стене резким раскрылием чернела мохнатая от мха рогулина, подобранная Харитоновым где-то в окрестных горах.
После бесконечных, утомительных перелетов приятно было наконец осесть в чистеньком, тихом общежитии, где можно спокойно пить чай по утрам, а вечером почитывать книжки, прихваченные с собой из Москвы. Так бывает — бездомностью, дальностью переходов изматывает дорога.
И все-таки нет ничего на свете прекраснее дальних, изматывающих дорог. Паустовский, великий любитель скитаний, писал:
«Это непременное качество всех путешествий — обогащать человека огромностью и разнообразием знаний — есть свойство, присущее счастью».
Как-то на мысе Шмидта, возвращаясь с ионосферной станции, мы вышли к берегу океана. Трое молодых рабочих бросали в накатывающуюся волну неуклюжего серого канадского гусенка: «Ну, лети же, дура, лети!» И даже взмахивали для убедительности руками — лети. Но гусенок, выращенный дома, с лихорадочной поспешностью выкарабкивался из воды и косолапо устремлялся к своим хозяевам, протягивая к ним на ходу тонкую серую шею. Его снова брали на руки и бросали в океан. Гусенок шлепался в воду с томным видом персидской принцессы, сброшенной с казацкого струга, немного перебирал крыльями и лапами и, с первой же попутной волной достигал берега, снова выгибал шею и бежал к своим огорченным хозяевам, тщетно умолявшим его: «Ну, лети!» Гусенок смотрел недоуменными глазами и жался к знакомым сапогам, подальше от незнакомого океана.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
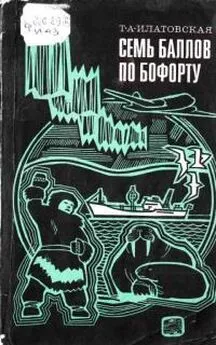

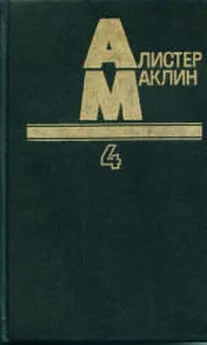
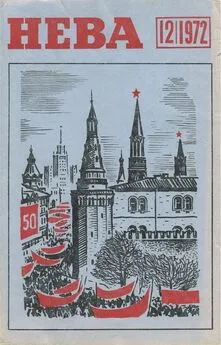
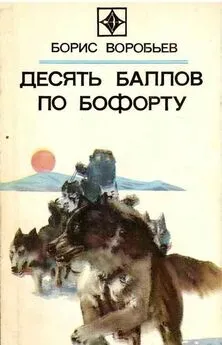

![Тамара Пикулина - Семь миров: Оракул [СИ]](/books/1066103/tamara-pikulina-sem-mirov-orakul-si.webp)
![Тамара Пикулина - Семь миров: Импульс [СИ]](/books/1066104/tamara-pikulina-sem-mirov-impuls-si.webp)