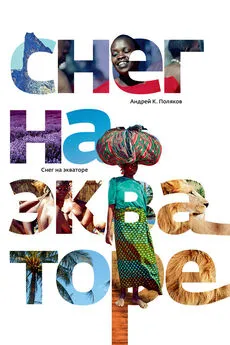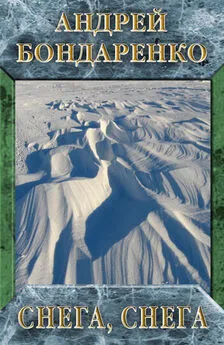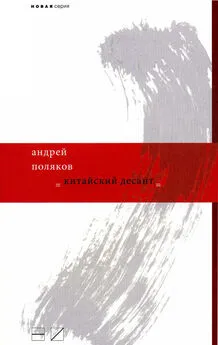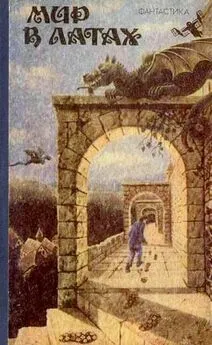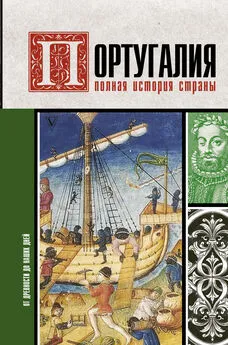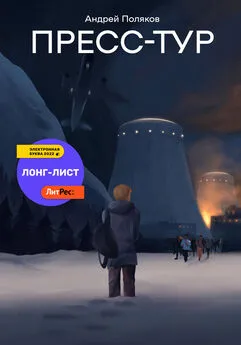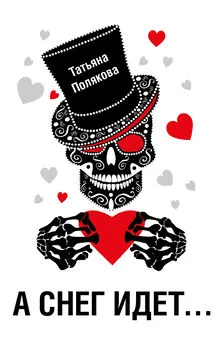Андрей Поляков - Снег на экваторе
- Название:Снег на экваторе
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Альпина
- Год:2017
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9614-5282-2
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Андрей Поляков - Снег на экваторе краткое содержание
Благодаря репортерской привычке не давать воли чувствам и добираться до сути, автору удалось создать объемную и объективную картину жизни Африки, в которой произошло невероятное смешение примет каменного и компьютерного веков. Автор рассказывает об Африке современной, древней, традиционной и первозданной. Отдав этому региону 12 лет жизни и зная его с самых разных сторон, часто весьма неожиданных, он готов щедро делиться с читателем своими знаниями. Путешествие будет долгим и непростым, но захватывающим и полным сюрпризов. В путь!
Снег на экваторе - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Правда, при мне ни одного трагического случая не было. Мы летали по шесть-семь дней подряд, потом следовал выходной, и вновь начинались длинные рабочие будни. Случалось работать и по 11–12 дней без перерыва – нас, бортовых переводчиков, было восемь – в полтора раза меньше, чем самолетов.
За каждым бортпереводчиком закреплялся «свой» экипаж. В основном мы летали с ним, а когда летчики отдыхали или проводились регламентные работы, пересаживались в другой самолет. Так и получалось, что «наш» экипаж летал дня четыре в неделю, а мы – столько, сколько надо. Ежедневно делали два рейса: до обеда и после. Самые длинные перелеты из Луанды в Сауриму и из Луанды в Луэну занимали час сорок – час пятьдесят. В таком сверхплотном режиме за пять месяцев я налетал больше полутысячи часов. Кто знает – поймет.
Перерывы на регламентные работы соблюдались неукоснительно. Вообще, в авиаотряде все делалось в соответствии с инструкцией. В результате самолеты работали четко, без сучка и задоринки. За весь год не случилось ни одного серьезного технического сбоя. Не то что потом, после распада СССР, когда из Африки стали одна за другой приходить трагические вести о катастрофах наших «Анов». Причины лежали на поверхности: самолеты не обслуживались, не ремонтировались, зачастую представляли собой списанное старье, которому одна дорога – на свалку. В таких условиях рано или поздно начинает сыпаться любая, самая испытанная и неприхотливая техника.
Каждый инцидент, каждая трагедия преподносились средствами массовой информации таким образом, чтобы вывод напрашивался сам собой, и у африканцев не оставалось сомнений: советские самолеты никуда не годятся, покупать следует исключительно продукцию западных авиакомпаний. Между тем те же «Ан-12» в Анголе вполне успешно конкурировали с американскими «Геркулесами», своими ровесниками, которые по сей день летают по всему миру и надежность которых никто не ставит под сомнение.
Переводчики состояли при военных советниках, но сразу оговорюсь: в мою бытность в Анголе наши офицеры непосредственно в боевых действиях не участвовали. На первом же установочном инструктаже в военной миссии нам четко заявили: мы здесь воевать не должны и не имеем права, стрелять можно только в целях самообороны, когда не остается другого выхода.
За свободу Анголы вместе с бойцами ФАПЛА воевали кубинцы. Мы постоянно сталкивались по работе и с теми и с другими. Накануне провозглашения независимости Анголы в ноябре 1975 года, когда армия ЮАР, где правил расистский режим апартеида, прорвала оборону и уже подходила к Луанде, кубинцы в ожесточенном бою остановили вражескую колонну. В Анголе служили и кубинские пилоты – они летали на «МИГах». И если ангольцы для нас были камарадуш, то есть товарищи, то кубинцы – эрманос, братья. Отношения складывались просто замечательные. Сложность заключалась только в одном: стоило лишь упомянуть вслух, что тебе что-то понадобилось, и кубинцы в лепешку разбивались, чтобы достать это для тебя. Поэтому мы старались ни о чем не просить этих открытых, мужественных, симпатичных парней.
Нам, бортпереводчикам, надо было хорошенько запомнить и научиться к месту употреблять всего лишь с полсотни самых ходовых слов. Вроде бы ерунда, зазубрить их нетрудно. Скажем, так:
– Луанда контроль, прием. Аэрофлот один, один, пять запрашивает разрешения запустить движки.
И все в таком духе. Но эфир один на всех, слышимость плохая, а ты должен четко различать и точно понимать, какие слова предназначены именно тебе, ведь от этого зависит не только твоя жизнь, но и жизнь экипажа, пассажиров, сохранность гигантской крылатой машины.
Своеобразие лексики, используемой при радиообмене, создавало немало забавных ситуаций. Например, обозначение «бортов», то есть самолетов. Если, помимо цифр, в их названии стояли еще и буквы, то их для лучшего понимания называли словами. Например, A, R, C звучали как «Альфа», «Ромео», «Чарли». Помнится, стоял на территории луандийского аэропорта одномоторный самолетик, на борту которого красовались литеры P и W. По принятым правилам, он представлялся в эфире как «Папа Виски».
Однажды при подлете к Луанде маломощная рация крошки никак не могла «добить» до контрольной вышки. Между тем наступало время снижаться и заходить на посадку. Эфир заполнили панические восклицания фальцетом:
– Луанда контроль, Луанда контроль! Вас вызывает Папа Виски! Вас вызывает Папа Виски! Прием!
После очередного нервного всхлипа «папы», прекрасно слышного нам, висевшим высоко в небе, но не доходившего до авиадиспетчера, в наушниках раздался спокойно-ироничный, густой бас пилота большого лайнера, тоже подлетавшего к Луанде.
– Эй, Папа Виски, ну зачем же так орать? – урезонил летчик коллегу. – Лучше скажи свои координаты, и я передам их контрольной вышке.
Через несколько секунд «папа» уже получал от авиадиспетчера указание снижаться до определенного эшелона.
На английском языке радиообмен вели только в международном аэропорту Луанды, где подчас на подлете «висел» десяток самолетов. Все их, прежде чем посадить, постепенно снижали, переводя с эшелона на эшелон. Каждый самолет должен был подтвердить получение команды. В самые «жаркие» моменты счет шел на мгновения. В других ангольских городах в воздухе одновременно находились по одному, максимум по два самолета. Там общение шло на португальском, и можно было не напрягаться.
Подчас приходилось вести радиообмен на испанском. В некоторых провинциальных аэропортах авиадиспетчерами работали кубинские военные. Особенно запомнился веселый парень из аэропорта имени Юрия Гагарина в южном городе Намибе, который в колониальные времена назывался Мосамедеш. Заслышав советский самолет в эфире, он так радостно вскрикивал и так яростно нажимал на «р», что его раскатистое «Аэр-р-р-р-р-р-р-р-р-офлот» буквально взрывало наушники, заставляя их нервно дребезжать.
Удобные наушники с микрофоном имелись только у одного переводчика, да и то его собственные, которые он купил в Москве. Мы оказались менее предусмотрительными. Кто же знал, что придется заниматься столь специфическим делом? Остальные общались в эфире с помощью ларингофонов, то есть двух маленьких приборов, которые передавали речь, если их плотно приложить к голосовым связкам. К горлу ларингофоны крепились с помощью ошейника, что вызывало неудобства. При африканской влажности и жаре кожа сильно потела и раздражалась. При первой возможности мы расстегивали ошейник и отсоединяли ларинги. Они свободно болтались на груди, а когда следовало выйти в эфир, мы подхватывали их и прижимали к горлу большим и указательным пальцами.
Теоретически, чтобы приступить к обязанностям бортпереводчика, требовалось пройти много этапов. Мы прошли только через одну процедуру: у нас измерили давление и сказали: «Ребята, вперед!» Прежде чем допустить пополнение к полетам, летчики усадили нас перед «черными ящиками» с записями переговоров, и так мы постепенно, за несколько недель, научились вычленять из эфирного хаоса то, что нужно.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: