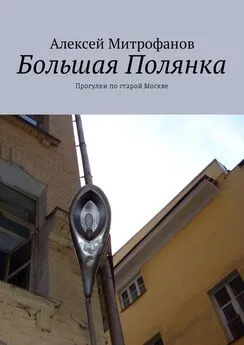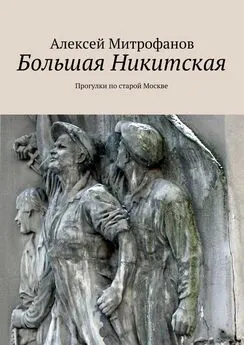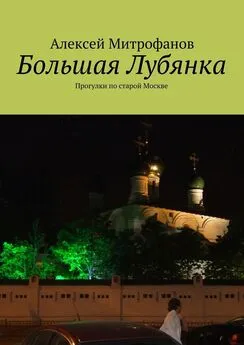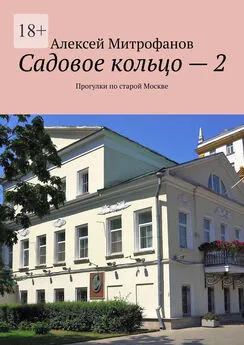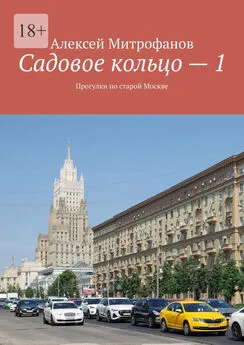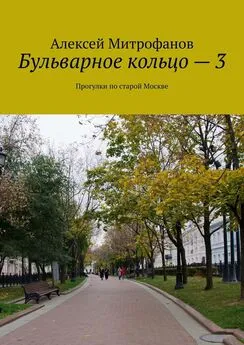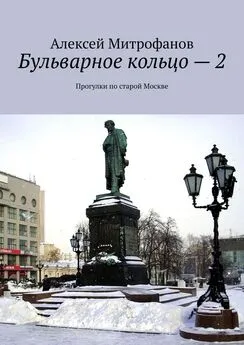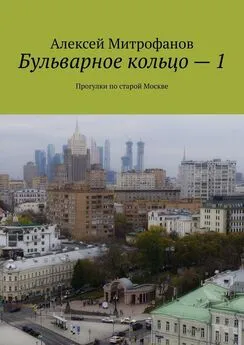Алексей Митрофанов - Большая Полянка. Прогулки по старой Москве
- Название:Большая Полянка. Прогулки по старой Москве
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Ридеро
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-93136-064-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Алексей Митрофанов - Большая Полянка. Прогулки по старой Москве краткое содержание
Большая Полянка. Прогулки по старой Москве - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
– Пост, не смей! Погоди, вот сломаешь ногу».
Не удивительно, что Николай Иванович Шмелев стал именно таким.
* * *
Начало проспекта – Октябрьская площадь и памятник Ленину, стоящий посреди бескрайнего пространства.
Первоначально на Октябрьской площади планировалось установить монумент «Октябрьская революция». Потом планы поменялись. Здесь поставили памятник Владимиру Ильичу, которому суждено было побить сразу два рекорда. Он – самый большой и вместе с этим самый последний из установленных в Москве.
Автор его, скульптор Кербель писал в 1988 году: «Памятник Владимиру Ильичу Ленину в Москве – да разве мог бы он хорошо смотреться на фоне пусть вполне симпатичных, но старых, не имеющих какой-нибудь эстетической, культурной ценности домов? Октябрьская площадь в ее нынешнем виде, на мой взгляд, не только достойно „обрамляет“ монумент, но составляет с ним органическое целое. На площади просторно, она открыта ветрам и в то же время как-то по-особому привлекательна. Здесь царит атмосфера приподнятости».
В сентябре 1997 года общество «Молодежная солидарность» провело акцию по «переименованию» памятника – на нем установили табличку с надписью: «Щукину Б. В., сыгравшему роли Ленина в театре и кино». Разумеется, табличку вскоре сняли.
Памятник же по сей день живет своей монументальной жизнью.
* * *
Первая достопримечательность, поставленная на самом проспекте, – Горный университет. Здание, в общем-то, довольно неприметное. Не потому, что маленькое или некрасивое. Просто оно находится в одной из самых суетных частей Москвы, где никому и в голову-то не придет задрать вверх голову и, бросив все, осматривать архитектурные достоинства ближайших зданий. Иначе можно и без ног остаться – переедут их колесами сумок-тележек, или так отдавят.
А вместе с тем, здание университета (горного, естественно) весьма своеобразно. Фасад его оживлен большим числом скульптурных изваяний всяческих ученых. Это было сделано в те времена, когда это учебное учреждение именовалось скромно – институтом, но зато носило грозное имя Сталина.
Однако же в начале девятнадцатого века здание, хотя еще и совсем низенькое, без ученых, обращало на себя гораздо большее внимание. Во-первых, улица была потише, провинциальнее. А во-вторых, дворцом владели (а тогда он был дворцом) известные в Москве дворяне Полторацкие.
Семейство Полторацких присовокупило к своей собственности это здание, ранее принадлежавшее Лопухиным, в 1809 году. Василий Стасов, их знакомый архитектор, сразу принялся устраивать жилище по вкусу его новых обитателей. При этом донесения, которые Василий Стасов слал хозяевам, сводились к одной мысли – дескать, овес нынче дорог: «Всю поправку в доме и в службах, исключая столярной чистой работы, лакировки и слесарной, как увидите из посланной от конторы описи, со всем подрядчиковым материалом и работниками, отдали 5500 руб. Конечно, более тысячью против, если бы то было весною. Столярная по примеру будет стоить 1 500 руб., слесарная до двух, лаковая до 700 руб., вставка стекол и живописная до 500 руб. Итого примерно до 9200 руб., исключая непредвиденное».
Полторацкие покорно соглашались с доводами Стасова.
Дворец был полностью закончен накануне взятия Москвы французами. Владельцам так и не пришлось пожить в свеженьком обиталище – они эвакуировались под Рязань, в свое имение Истье. Дом обновил контуженный на Бородинском поле Петр Оленин. Товарищ его писал жалобы в Рязанскую губернию: «Расположены мы в вашем дворце, но кроме стен и нескольких стульев, ничего здесь не находится, и я беспрестанно ругаю вашего приказчика, который очень медленно нам все достает».
Затем, когда Москва была сдана, здесь, во дворце обосновался некий «неприятельский чиновник, барон Туалет». Возможно, что при Туалете упомянутый приказчик был порасторопнее.
Зато после войны жизнь Полторацких, наконец, наладилась. И в 1814 году здесь состоялось торжество общемосковского масштаба – праздник по поводу того, что «Росс, в венцах, в Париж взлетел». Было приглашено самое именитое дворянство города.
Основной частью программы была пьеса «Храм бессмертия», сочиненная к этому празднику неким Алексеем Михайловичем Пушкиным, дальним родственником, однофамильцем знаменитого поэта. Трудность состояла в том, что, по велению пушкинского гения, самые именитые дворянки должны были представлять в той «мелодраме» разные страны Европы. Россию, например, играла жена князя П. А. Вяземского (платье, сшитое к той роли, стоило две тысячи рублей, бриллиантов же использовалось на полмиллиона), и здесь никаких проблем не встало (в том числе, похоже, и материальных). Зато Францию и Польшу не хотел играть никто – из патриотических соображений.
После действия был бал до утренней зари. При этом не забыли и простонародье – его, конечно, в залы не пустили, зато в саду устроили общедоступные качели, балаганы и фейерверк.
У Сергея Полторацкого, случалось, гостил Пушкин. Поэта, вероятно, привлекали две главных страсти – библиофилия и карты. Почтмейстер А. Булгаков как-то сообщал: «Дело Полторацкого не хороший берет оборот: его обыграли на 700 000. Он писал просильное письмо и жалобу князю Дм. Вл. Голицыну, рассердясь, что не хотели с ним мириться и делать уступку. Играло тут много: называют Исленева, Голицына, что женат на Кутайсовой, Пашкова и других. Волков (жандармский генерал) следует это дело».
Пушкин, кстати, сам не прочь был руку приложить к разорению Сергея Дмитриевича. А потом посылал деньги Соболевскому в сопровождении письма: «Деньги же эти – трудовые, в поте лица моего выпонтированные у нашего друга Полторацкого».
В результате к 1832 году некогда богатейшее семейство Полторацких обнищало так, что их дворец был продан государству. Здесь сначала устроили богадельню, а потом – Мещанское училище.
Золотой век дворца Полторацких закончился.
Бытописатель Н. Скавронский описывал его порядки: «На первом плане в… группе, основанной и содержимой Московским купеческим обществом на суммы частных благотворителей, стоит московское Мещанское училище, им управляет совет из членов и эконома… Училище это, как и многое в этом роде, опять-таки выдвигает перед нами грустное действие полумеры в образовании. Программа там крайне бедная и не имеющая никакого направления, кроме обучения грамоте и письму, да в некоторой степени счетоводству; иностранных языков ни одного нет в курсе, воспитанников до сих пор занимают грубыми работами – колоньем дров, чисткой пруда; чая нет ни утром, ни вечером; белье на столе по большей части грязное и салфеток полагается далеко не на каждого, так что мальчики… принуждены заменять их бумагой, таскаемой ими в замасленном виде в кармане; приставники общаются крайне грубо с детьми, особенно с маленькими, и нередко семинарская рука гуляет по мещанской щеке или забирается в волосы… Мы имеем еще веру в лучшее будущее этого заведения, на лучшее направление в нем образования, в котором так нуждается наше многочисленное купеческое общество и возлагает свою надежду на Ф. Ф. Рязанова, выбранного в совет училища, человека, знакомого с потребностями своего общества. Что же касается женского отделения училища, то также смеем обратить внимание на положение его наших дам-купчих, выбранных как советниц и помощниц в деле направления воспитания. Все девочки и довольно большую часть дня заняты работою; работа – это шитье приданого богатым купеческим дочерям. Работа – дело похвальное, и приучение нашей женщины к посильной работе похвально еще более; но не употребляется ли на нее слишком много времени в ущерб классным занятиям? Это первый важный вопрос; второй в том: куда идет вырабатываемая довольно значительная сумма? Она, кажется, по всем правилам собственность работниц, а потому не дурно было бы публиковать годовой отчет доходов от работы, а также и расходов, на которые суммы эти употребляются. Нашелся бы даже и предмет, на который можно бы или скорей должно бы обращать скопляющиеся от этой работы суммы, отнюдь не употребляя их на расходы заведения, как благотворительного, следовательно, имеющего достаточный фонд, или на что-нибудь иное: суммы эти могли бы составлять приданое бедных, воспитывающихся там девушек. Приданое, хотя назначено и самим уставом, – но что это за приданое – это скорее насмешка над бедностью. Посудите, что могут сделать тридцать-сорок рублей хотя в первоначальном обзаведении хозяйством новобрачной? Тут-то и могли бы помочь суммы, вырученные от собственного труда в продолжение нескольких лет, неотъемлемо принадлежащие работнице».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: