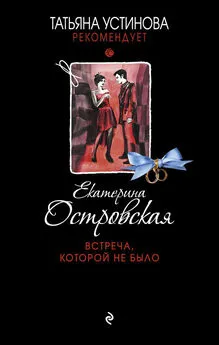Игорь Забелин - Встречи, которых не было
- Название:Встречи, которых не было
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Мысль
- Год:1966
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Забелин - Встречи, которых не было краткое содержание
Встречи, которых не было - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
На Анадыре оба враждующих отряда обнаружили пропавшего Дежнева, и Мотора тотчас объединился с ним. Соотношение сил изменилось не в пользу Стадухина, но это его ничуть не смутило. Он продолжал буйствовать, продолжал безобразничать и довел своих противников до того, что Дежнев и Мотора решили уйти с Анадыря… на Пенжину.
И ушли, «укрывался и бегаючи от его Михайловы изгони», как сообщили потом в отписке. Три недели продолжался этот поход, но закончился он неудачно: Пенжину найти не удалось.
И тогда на Пенжину отправился сам Стадухин, которому, очевидно, все-таки надоели распри. Правда, если верить его отписке, то ушел он с Анадыря из-за «насилства» Дежнева и Моторы, но тут ему, пожалуй, не стоит верить.
Трудно сказать, сколько человек отправилось со Стадухиным на Пенжину. В отписке названы имена немногих, преимущественно погибших. Можно лишь констатировать, что в походе приняли участие Максим Иванов, Тимофей и Шарап Важенины, Семен Зоя, Ерофей Киселев, Иван Федоров, Агафон Иванов, Андрей Филипов, Иван Шестаков, Савва Федотов, Архип Аршинин, Матвей Калин, Михаил Вят, Яковлев, Пустодом, Сидоров, Манов…
Но отряд едва ли был малочисленным. Стадухин хоть и ходил в чинах невеликих — и на тридцатом году службы все в десятниках числился, — но славу имел громкую, и люди к нему шли.
На Пенжину Стадухин отправился уже зимою, нартами. Если ему удалось захватить знающих вожей — отсутствием их объясняли свою неудачу его предшественники, — то путь его пролегал, скорее всего, по долине Майна, притока Анадыря. Майн берет начало на северо-восточных склонах Пенжинского хребта, и лишь невысокий перевал отделяет его истоки от бассейна Пенжины.
Нелегким, конечно, был поход Стадухина. И зимы в тех местах суровые, и снега глубокие, и метели сильные. В Якутии, где раньше служил Стадухин, сильный морозам чаще всего сопутствует полный штиль. А на северо-востоке в самые сильные морозы дует нередко ветер — хиуз, к которому местные жители относятся с неменьшим почтением, чем к злейшей пурге. И с подножным кормом для людей в тех краях худо. На всяческие бедствия жалобы есть почти во всех отписках, но у Стадухина, не сомневаюсь, имелись основания написать, что шли они «с великою нужою и без хлеба на том волоку едва не померли».
Стадухин торопливо прошел все среднее течение Пенжины — в его отписке даже нет этого названия — и 5 апреля 1651 года достиг устья правого притока Пенжины Аклея, как пишет он, или Оклана, как пишут на современных картах. В устье Оклана стояло укрепленное корякское селение, и казаки завладели острожком; Так обрели они, наконец, временное пристанище. Далеко не спокойное, впрочем… Весною казаки решили построить, морские суда и, как написал потом Стадухин, «лес судовой добывали с великой нужою, а суднишка поделали».
Да, действительно нелегко было на нижней Пенжине «поделать суденышки». По рассказу самого Стадухина, «на той реке лесу нет, по обе стороны все камень голец с вершин и до моря, а рыбы мало». Растет на гольцах кедровый стланик да кустарниковая березка с ивами, а лиственницы, тополя, чозения, береза — это все гораздо выше по реке, за Аянкой.
Так или иначе, казаки кочи построили и, узнав от коряков, не чаявших, как избавиться от незваных пришельцев, что есть за морем река Гижига, и лесом богатая, и соболем, узнав это казаки расстались с Пенжиной. Могучие приливные волны поднимали и опускали их кочи, пока шли они Пенжинской губою. Наверное, немало подивились казаки столь странному поведению моря-окияна, — на северных морях приливы практически незаметны, — но каверзу учинили им не приливные, а обычные морские волны: трое суток носил шторм кочи по морю, и один из кочей разбило о скалы.
Гижига произвела на Стадухина более благоприятное впечатление, чем Пенжина, и он написал, что «на той реке будет государю прибыль немалая». Сам он, выстроив острог, продержался на Гижиге одну зиму, отражая почти непрерывные атаки воинственных коряков, и «сошел с той реки от безлюдства, что служилых людей мало, привести (коряков. — И.3.) под государскую высокую руку не кем…»
И тогда продолжилось плавание Стадухина по Охотскому морю. Плыл он не спеша, все лето, и лишь 10 сентября 1653 года выбрал место для нового острожка, на реке Тауе, что впадает в Тауйскую губу… На берегах Тауйской губы жили уже не коряки, а тунгусы, эвенки, но по-прежнему, конечно, продолжались между казаками и местными жителями ожесточенные бои, по-прежнему сидели в казенках аманаты, собирался для государевой прибыли ясак…
Об Охотском море Стадухин отозвался весьма скептически, написал, что там «никаких диковин нет». Впрочем, какие «диковины» могли поразить воображение казака, почти четверть века проведшего в непрерывных странствиях?! Удивительнее, что он не заметил на Охотском море моржей.
Стадухин вернулся в Якутск лишь в 1659 году. Погиб он в 1666 году по пути на Колыму, — тянуло, наверное, старого казака на реку, которую он первым из русских увидел своими глазами.
Мне же в заключение важно подчеркнуть, что в Тауйской губе сомкнулись маршруты Алексея Филипова и Михаила Стадухина, сомкнулись северные и южные пути-дороги. Позднее, когда Стадухин, уже направляясь в Якутск, пришел в обжитый Охотск, пути-дороги навсегда сплелись там для историко-географов в неразрываемый узел. Восточная дуга прочно легла на северную и южную опоры.
Река
Первоначальная история исследования Охотского моря, как видно по предыдущим главам, неразрывно связана с историей Якутска или, точнее, Якутского острога: походы и начинались, и заканчивались в административном центре гигантского воеводства.
И поневоле в книгах или документах, которые я читал, заинтересовавшись Охотским морем, мне попадались имена воевод… И частенько встречалось имя Василия Пояркова, того самого, что побывал на Охотском море после Москвитина и Горелого. Как правило, имя его соседствовало с именем воеводы Петра Головина. В самом этом совпадении нет ничего странного: Поярков был «письменным головой», то есть чиновником по особым поручениям при воеводе, и положено им было действовать вместе.
Они и действовали вместе, в полном согласии, но действия их на первых порах показались мне несколько неожиданными… Пытают в пыточной избе Семена Шелковника (еще до похода на Охотское море) — и Василий Поярков тут как тут… Бьют батогами отчаянного казака, Василия Бугра, в числе первых пришедшего на Лену, — и Поярков при деле… Морят голодом, калечат Ерофея Хабарова — и Поярков не в стороне… Пытают Парфена Ходырева… И так далее и тому подобное…
Из песни слова не выкинешь: по Охотскому морю Поярков плавал, первым прошел от устья Амура до Ульи, и я решил, что называется, поближе познакомиться с ним.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:





![Игорь Забелин - Загадки Хаирхана [Научно-фантастические повести]](/books/1077009/igor-zabelin-zagadki-hairhana-nauchno.webp)