Вячеслав Гончаров - На суше и на море 1987
- Название:На суше и на море 1987
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Мысль
- Год:1987
- Город:Москва
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Вячеслав Гончаров - На суше и на море 1987 краткое содержание
На суше и на море 1987 - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
— Так и сяк прикидывали мы с Лисянским. И вот что выходит. Никто не может здесь помочь лучше… алеутов…
Головнин даже поперхнулся, а Румянцев со стуком отложил вилку:
— Каким же способом полагаешь, милейший Иван Федорович, обучить сих туземцев?
— А их и. обучать не нужно, искуснее мореплавателей, чем алеуты со своими байдарами, в краю этом не найти. Мыслится мне большая байдарная экспедиция под началом вот такого расторопного и бывалого морского офицера, как лейтенант сей, — Крузенштерн указал глазами на сидевшего рядом Головнина. — Результаты должны быть отличнейшими при самых малых затратах. Вот дело по силам Российско-Американской компании.
Граф Румянцев только недоверчиво качал головой, глаза лейтенанта зажглись любопытством. А Крузенштерн говорил уже о другом.
— Много думаю я о неудаче посольства в Японию, надо возобновить наши усилия. Невероятно, чтобы японское правительство не понимало, как важно жить в хороших отношениях с Россией.
И опять, как и всегда, расчеты, выкладки. «Надежда» вышла из Нагасаки с грузом риса и соли. Эти и другие продукты можно оттуда поставлять на Камчатку и в Русскую Америку. Япония же — необъятный рынок для пушнины.
…Здесь, на Английской набережной, не слышалось ни стука карет, ни криков разносчиков. Только шумела листва под порывами ветра с реки. Вместо того чтобы идти к перевозу, моряки, повинуясь безотчетному желанию, зашагали вдоль набережной, любуясь невской перспективой и красками погожего летнего дня, уже угасающего.
— Сколько мы беседовали нынче о нашем с Лисянским плавании, — проговорил Крузенштерн, отвечая собственным мыслям, — а вроде бы и разговора не начинали. Поведать многое еще предстоит.
Густые брови лейтенанта сдвинулись и разошлись. Он улыбнулся, погладил себя по бакенбардам и проницательно взглянул на собеседника.
— Пока живешь, исчерпать себя не можно, так полагает французский философ Дидро, коего я сегодня изрядно почитал. Ну а касательно плавания… Я чаю, даже и потомки наши будут обращаться к нему вновь и вновь. Слишком большие пласты жизни русской оно затрагивает.
Головнин следил за парусом, удалявшимся вниз по течению. Мыслями он уже был там, в Кронштадте, на борту «Дианы».
Константин Бродский
В ЦЕНТРАЛЬНЫХ КАРАКУМАХ
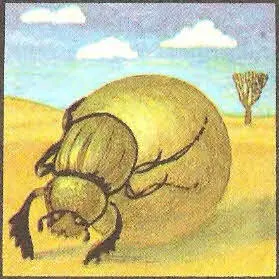
Очерк
Художник Е. Кузнецова
Фото подобраны автором
В моем домашнем архиве хранится интересный документ — пожелтевший лист бумаги, исписанный арабской вязью. Сверху листа — штамп ЦИК Туркменской Советской Социалистической Республики, внизу подпись председателя ЦИК тов. Карпова. Это так называемый «Открытый лист», по-восточному «фирман», — указ местным властям оказывать всемерное содействие биологу Каракумской экспедиции К. А. Бродскому, то есть мне, тогда еще студенту 3-го курса и полноправному участнику правительственной экспедиции в пустыню Каракумы.
Насколько я помню, за время, прошедшее с 1927 года, ни одно издание для широкого читателя не осветило работу этой экспедиции, и мне думается, что в век научно-технической революции интересно поделиться воспоминаниями о том, как проходили научные исследования в Каракумах шестьдесят лет назад.
Экспедиция организовывалась в трудных условиях. Прошло всего десять лет со дня Великой Октябрьской социалистической революции. Советская власть утвердилась на всей огромной территории России, но в Средней Азии она сталкивалась с особыми трудностями: изоляция от Центральной России, религиозная и племенная рознь, хозяйственная разруха, а главное, непрекращающиеся сражения с бандами басмачей, получавших помощь из-за границы. И несмотря на это, заботясь о развитии экономики края, ЦИК Туркменской ССР решил отправить в Каракумы комплексную экспедицию биологов и почвоведов. Главной задачей экспедиции было изучение типов водоемов в пустыне. Основываясь на результатах исследования водной фауны колодцев и временных водоемов, требовалось решить вопросы о происхождении вод, длительности жизни этих водоемов и дать их характеристику. Параллельно с этим ставились задачи и для ботаников, почвоведов, специалистов по наземной фауне.
В экспедиции участвовали известные ученые — профессора первого в Средней Азии и Казахстане университета (САГУ): Даниил Николаевич Кашкаров — знаток фауны млекопитающих, мой отец Абрам Львович Бродский — специалист по фауне одноклеточных-простейших и водной фауне; преподаватели: зоолог Курбатов, почвоведы Скворцов и Францкевич. Общие идеи о необходимости изучения водного режима всего тогдашнего Туркестана разрабатывались почвоведом Николаем Александровичем Димо, но он в экспедиции не участвовал.
Ученые, которых я назвал, оказались в Ташкенте в 1920 году, покинув Москву для организации университета, созданного по декрету В. И. Ленина. Переезд из Москвы был совершен в трудных условиях — на поездах, впоследствии получивших название «поездов науки» или «Ленинских поездов». С первых же дней пребывания в Ташкенте профессора и преподаватели будущего университета активно включились в работу. Так, уже в год приезда в Ташкенте состоялась экспедиция на Аральское море; в последующие годы ученые каждое лето проводили в экспедициях, причем единственным видом транспорта являлась лошадь, поскольку никаких дорог в тех местах тогда не существовало, а были лишь древние караванные тропы.
К времени Каракумской экспедиции весь ее научный состав имел опыт почти семи лет путешествий. А, например, мой отец, типичный «кабинетный ученый», уже в 1922 году писал, что он хорошо освоил верховую езду, а главное, сложную процедуру вьючения животных, что он может это делать не хуже природных кочевников — казахов. Да и сам я начал экспедиционную деятельность с 1920 года, когда мне было всего 13 лет.
Уже в апреле на базе экспедиции в Ашхабаде началась подготовка к предстоящему сложному путешествию. Сложен был даже первый этап подготовки — выбор маршрута. Надо было рассчитать все расстояние в километрах, согласовать их со временем караванного хода (примерно 3 км в час), и все это увязать с временем, потребным для перехода от колодца к колодцу. Последнее было труднее всего: приходилось больше гадать, где расположены эти колодцы, ибо хороших карт не было, а если на имевшихся источники воды и были обозначены, это вовсе не означало, что мы их действительно там найдем. Они могли быть засыпаны или, что еще хуже, испорчены басмачами (в Туркмении их называли колтоманами). Но все же удалось наметить план будущего пути.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:










