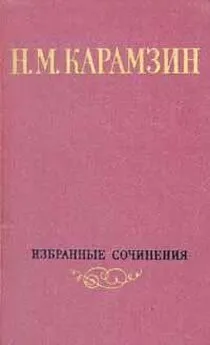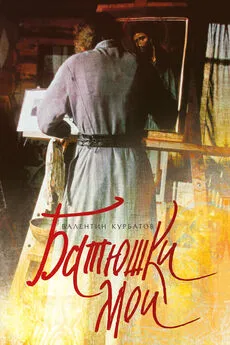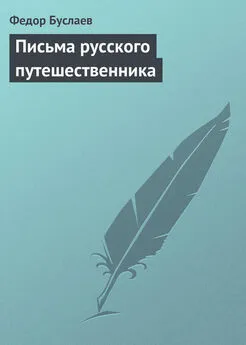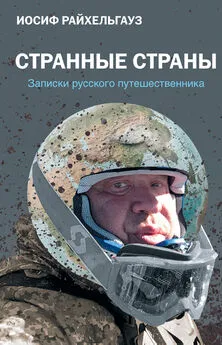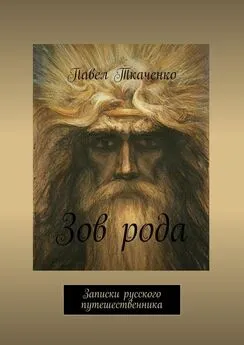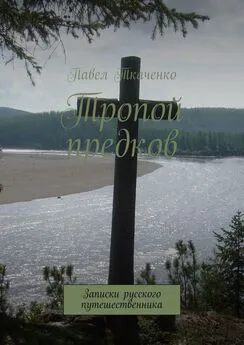Валентин Курбатов - Турция. Записки русского путешественника
- Название:Турция. Записки русского путешественника
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Амфора
- Год:неизвестен
- ISBN:978-5-367-01062-6
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Валентин Курбатов - Турция. Записки русского путешественника краткое содержание
Турция. Записки русского путешественника - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
И наутро она не выросла, хотя мы начали день не с нее, а с уходящего в озеро мыса, на котором стоял сенат, потому что уже знали, что Константин Великий сзывал собор именно в сенате. Я до некоторого времени полагал, что христиане до Миланского эдикта 313 года, позволившего им выйти из подполья, вообще не строили храмов, потому что гонения не кончились и с Константином, а уж до него были просто беспрерывны. Но потом прочитал у нашего церковного историка В. В. Болотова, что «в благоприятную эпоху… христиане начали строить отличавшиеся известным великолепием обширные храмы». 23 февраля 303 года была, в соответствии со старыми хрониками, разрушена землетрясением великолепная никомедийская церковь. На другой день последовал жестокий эдикт Диоклетиана, предписывающий разрушать христианские храмы и отнимать книги. Так что если что и успели построить, было обречено.
Но конечно, и не только поэтому Константин собирал епископов в сенате. На золотом троне в роскошных одеждах он указывал церкви место в новом христианском государстве, искал единства усилий. Он кланялся высокому уму Афанасия Великого, целовал выколотые глаза мучеников Пафнутия и Потамона, обнимал простеца Спиридона Тримифунтского, оставившего для собора своих овец, демонстративно подчеркивал холодность к Арию и его другу Евсевию Никомедийскому. Еще не предвидя, что на смертном одре примет крещение как раз от этого арианца Евсевия, который не оставит восточной привычки красить волосы и ногти, чего ему потом не забудет его молодой воспитанник, племянник Константина Великого император Юлиан.
Император не пожалеет казны, приняв на себя все расходы собора — от поставки лошадей для епископов до трехмесячного их проживания в Никее.
Собор выработает Символ веры (до этого он был почти у каждой церкви свой), при этом сам император вставит в него самое главное противоарианское слово — «единосущный». Собор определит время празднования Пасхи, которую тоже праздновали всяк по себе — кто всегда 14 нисана, на какой бы день недели это число ни приходилось, кто на неделю позже еврейской Пасхи, чтобы не смешивать событий Ветхого и Нового Заветов.
Константин радовался внешнему единству епископов, осудивших Ария за неприятие Христова «единосущия» Отцу. Церковь делалась всеимперской, вселенской. Но Арий не зря был учеником святого мученика Лукиана, чье понимание Христа он и проводил в жизнь, не прибавляя своего и освещая свое вероисповедание, обеляя его кровью учителя. Его можно было сослать, но что делать с его богословием, которое казалось более человечным, ибо не мучило сознания простого христианина непостижимой, не вмещаемой реалистическим умом тайны Троицы.
Церковь будет биться с этой ересью еще несколько десятилетий, так что, когда Григорий Богослов через пятьдесят лет после Никейского собора возглавит константинопольскую кафедру, ему будет негде служить, ибо и София, и собор Святых апостолов, как и все другие значительные церкви, останутся приходами ариан.
От сената теперь сохранилась пустая площадь да несколько камней в воде озера, и надо все время возгревать воображение, чтобы представить на пустынной набережной это первое великое упражнение в единстве, оставившее нам в завещание мощное слово «соборность».
Последний для нас Седьмой Вселенский собор, на которым мы счет вселенских соборов остановили, проходил именно в Никейской Софии. Как она вмещала триста пятьдесят епископов — Бог весть…
Теперь это трудно представить, но для императора Льва Исавра достаточно было опасного извержения вулкана на Средиземном море в 726 году, чтобы выставить его причиной именно иконопочитание как форму языческого поклонения идолам. Император писал в Рим папе Григорию II в объяснение начатого им гонения: «Иконы — это идолы, запрещенные второй заповедью… Я вынужден сокрушить накопившееся суеверие христианского народа. Я имею на то право, и это мой долг, ибо я царь и иерей». Спустя столетие, когда его будут анафематствовать, он уже будет не «царь и иерей», а, по слову русской истории: «зверь зловредный, демонский слуга, мучитель и гонитель стада Христова».
Западная церковь не уступила икон, а на Востоке Лев и особенно его сын Константин, которого за любовь к лошадям за глаза звали Лошадником, или Навозником, истребили настоящие сокровища. Константин сочинил даже собор (754 г.), унизил епископов вынужденным согласием на гонения и взялся за монахов, которые оказались тверже епископов. В 767 году только в тюрьме константинопольской претории сидели сразу монаха. Им урезали уши и носы, жгли бороды, выкалывали глаза, отсекали руки. Их таскали на веревках по городу, освобождая учеников школ, чтобы они могли принять участие в глумлении. Не щадили даже мощей. Мощи мученицы Евфимии сбросили в море, и их спасли благочестивые люди. В Кизике епископ Иоанн был обезглавлен за то, что отказался наступить на иконный лик Богородицы. Патриарха Константина не только заставили отречься от икон, но и принудили пировать в венке, а потом все-таки допрашивали в Софии и после каждого вопроса били по лицу, чтобы в конце концов вытолкать из церкви задом наперед.
Монашество бежало на запад. Пропасть между Церквями ширилась. Но тут лучше не оглядываться, чтобы не затмить светлого Никейского дня. Дело исправила невестка Константина, афинянка Ирина, жена его сына Льва. Она пыталась собрать епископов в Константинополе, но пятьдесят лет без икон вырастили два поколения резких противников. Надо было готовить почву терпеливее. И в стороне от «передовой» столицы.
Вот и была избрана Никея с ее гордой памятью о Первом соборе. София, как сегодня, горела на сентябрьском солнце, которое здесь не уступает нашему в июле (собор открылся 27 сентября 787 года). И шел без давнего блеска. Слишком тревожен был вопрос, слишком смущены участники, ведь многие из них сами изгоняли иконы — кто искренне, а кто по долгу, и сейчас стыдились своих седин и переметчивости, когда председательствующий патриарх Тарасий спрашивал с укоризной: «Ну и как же это ты, батюшка мой, десять лет проепископствовал и только сейчас прозрел?»
При этом собор оказался единодушен, и этим единодушием устыдил даже твердого противника икон Григория Неокесарийского. Икона возвращалась в храм навсегда.
Домостроительство завершилось. Церковь уходила в века сложившейся, непотрясаемой, определенной. Хотя, как и в случае с первым собором, болезнь врачевалась не сразу. Иконоборчество с крепкими ростками еще попробует вернуться, и даже собор 815 года соберет, доносчики еще будут клеветать на своих противников заведенным порядком, обвиняя в хранении икон и книг. Настоящее утверждение иконы, названное Торжеством Православия, сделается праздником только с 843 года, чтобы с той поры не прерываться навеки.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: