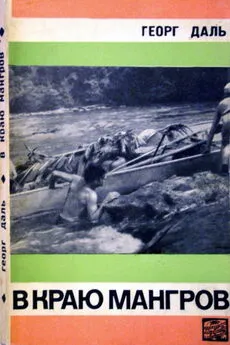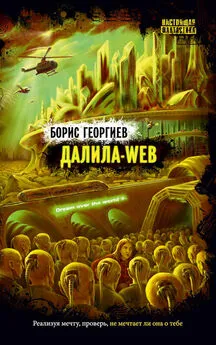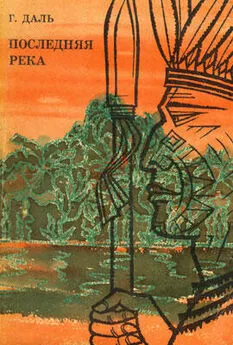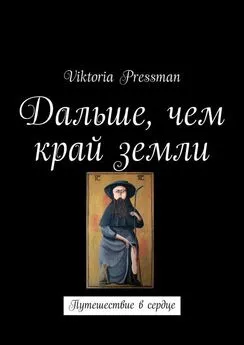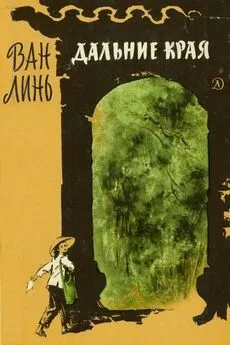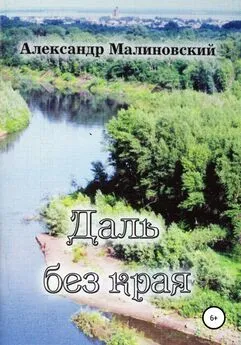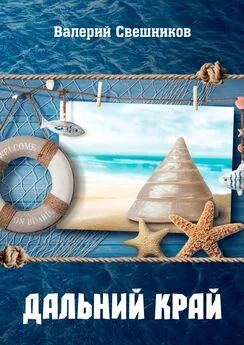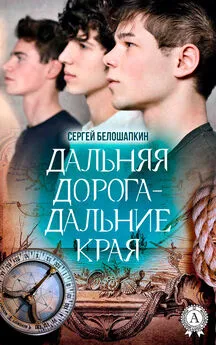Георг Даль - В краю мангров
- Название:В краю мангров
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«Мысль»
- Год:1966
- Город:М.
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Георг Даль - В краю мангров краткое содержание
© ozon.ru cite
empty-line
4
empty-line
6 empty-line
7 0
/i/84/722784/i_001.png
В краю мангров - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
А в солоноватых озерах Титипана, главного острова архипелага, живет немногочисленная изолированная популяция крокодилов. Длина самого большого из них — два метра; это вдвое меньше взрослых Crocodylus acutus, обитающих в реках и озерах на материке. В одном из притоков Магдалены я убил старого самца длиной в четыре метра пятьдесят семь сантиметров, а в Риу-Ламиель видел крокодила еще длиннее; там крупнейший из здешних крокодилов показался бы неполовозрелым подростком.
Видимо, титипанские крокодилы оказались отрезанными в конце плейстоцена; до той поры уровень моря был гораздо ниже и архипелаг сообщался с материком.
Не верится, чтобы представители этого рода приплыли на острова Сан-Бернардо из материковых озер. Это же не морские крокодилы, населяющие островное царство между Азией и Австралией. Проплыть километр-другой вдоль побережья из одного устья в другое они еще способны, это я видел. Но я видел также, что иногда такого пловца наказывает за смелость акула. Как-то возле устья реки я наткнулся на мертвого крокодила без одной передней ноги, с зияющей раной в боку.
Опять ящерка выглянула из своего убежища, готовая чуть что юркнуть обратно. Ей невдомек, что я совершенно безопасен. Правда, иногда я собираю рептилий для моего друга герпетолога, который в свою очередь ловит для меня рыб. Но эта малютка не попадет в банку со спиртом.
К тому же вид этот настолько распространен на материке, что от силы заслуживает нескольких строк в записной книжке.
Чем ближе солнце к горизонту, тем свежее ветер, но морские птицы еще летают. Только что к Панде потянулись вереницы бакланов; две олуши полетели к Маравилье, там живет особенно много птиц, и среди них огромная колония фрегатов. Но не все покинули меня. В дальнем конце Галеры, где самые густые мангры, прячется маленькая цапля, похожая на выпь. Выйдет из серого лабиринта веток и воздушных корней, посидит и скорее обратно в свое укрытие.
Два старых коричневых пеликана дремлют на макушках засохших сарагосилья. Поначалу они поглядывали на меня недоверчиво, потом, должно быть, отнесли меня к наименее интересной части фауны — неопасной и несъедобной. Они сидят совершенно спокойно, даже когда я развожу костер и вешаю над огнем кофейник.
Но они только кажутся сонными, их глаза все видят, все примечают. Стоило косяку сардин войти в крохотную бухту за манграми, как пеликаны тотчас ожили. Взлетели, зашли против ветра, плавно пролетели над островком и упали на добычу, взбивая воздух крыльями и перепончатыми лапами.
Впрочем, «упали» не то слово, ведь только клюв, голова и часть шеи на миг исчезают под водой. В следующую секунду пеликаны уже спокойно лежат на воде. Вот они делают несколько отрывистых движений, словно вытряхивают рыбу из своего кожистого мешка в глотку, потом клюв поднимается вверх — глотают. Затем взлетают и возвращаются на свои наблюдательные вышки.
Изящными их не назовешь, но рыбу они ловят здорово, и с ними мне не скучно.
Я могу без конца наблюдать всех этих пернатых рыболовов: баклана, черную крачку, олушу, пеликана, фрегата. Они обитают в одинаковой среде, едят примерно одну и ту же пищу, а как не похожи друг на друга! Каждый великолепно приспособлен к окружению — и каждый на свой лад.
Эта приспособленность придает их поведению обманчивую видимость осмысленности. А процесс, который сделал их такими, представляется выражением мудрости и прозорливости. Точно в основе всей этой целесообразности лежит чей-то замысел. И когда наблюдаешь самые яркие примеры приспособляемости, так и подмывает всплеснуть руками и воскликнуть:
— Ах, как мудро и целесообразно все создано!
Самая простая и самая примитивная реакция. Впрочем, еще хуже ни на что не реагировать и ничему не удивляться, по примеру бездумно пасущейся в клевере коровы.
Смысл, порядок, цель? Крачка или фрегат — образцы приспособления к морской среде. Но то же можно сказать о плезиозавре Elasmosaurus, абсолютном рекордсмене мира по числу шейных позвонков (семьдесят шесть), или о летающем ящере Pteranodon ingens: сам он был чуть больше лебедя, а размах его крыльев достигал восьми метров.
Они обитали в морской среде, очень похожей на современную, и были к ней отлично приспособлены; вполне возможно, что они жили в здешних водах. Нам известно, что они вымерли в конце мелового периода, от восьмидесяти до ста миллионов лет назад. II не оставили никаких потомков. Стоило условиям жизни чуть перемениться, и сказке пришел конец. Так где же «смысл»?
Не будь все эти птицы да и другие твари: малярийные комары, глисты, бациллы проказы, маленький сом Schultzichthys gracilis из бассейна Ориноко, который забирается в жабры крупных сомов и сосет из них кровь, — так приспособлены к своей естественной среде, их бы не было на свете. Они потомки родителей, выживших потому, что наследственный код в сочетании с благоприятными мутациями позволил им приспособиться к среде.
Неприспособившихся форм вы просто не увидите, потому что все потомки, не наделенные достаточной приспособляемостью, исчезают подобно Pteranodon, Elasmosaurus и множеству других. Только обладающие приспособляемостью выживают и продолжают свой род. Они процветают и совершенствуются в определенном направлении, пока среда, к которой они приспособились, не изменится слишком резко.
А все зависит от того, утратили ли они свою пластичность, способность эволюционировать в другом направлении, или нет, смогут ли постепенно, на протяжении ряда поколений, «переделаться», приспосабливаясь к новым условиям. Если гибкость сохранилась, они более или менее «целесообразно» меняются вместе со средой, и все кончается хорошо — до поры. Когда происходит раздел жизненного пространства да притом возникает географическая и экологическая изоляция, линия развития может, так сказать, разветвиться на множество форм со своим отдельным ареалом.
Примером могут служить сомы и харациновые: только в Южной Америке известно больше тысячи видов этих рыб. Или рыбы семейства Cichlidae, которых в озере Танганьика насчитывается сто семьдесят четыре вида.
Если же пластичность утрачена, выживут лишь те, которые оказались в немногих на нашей планете местах с устойчивой средой. Так появляются интересные, «достопочтенные» реликтовые формы: скажем, слепой протей, обитатель подземных вод Далмации и Каринтии, или двоякодышащие рыбы, живущие в некоторых тропических болотах, или брахиопод Lingula, приспособленный к определенному типу морского дна.
Остальные формы вымирают и переходят из области зоологии в область палеонтологии.
Рано или поздно потомки другой линии заполнят образовавшуюся пустоту. Так, место рыбоящеров, мезозавров и плезиозавров миллионы лет спустя заняли киты, дельфины и косатки.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: