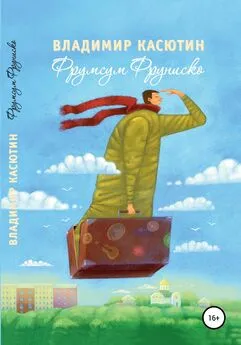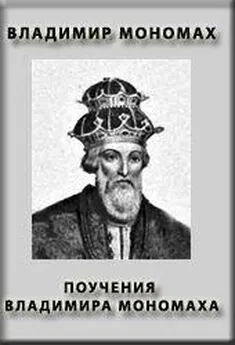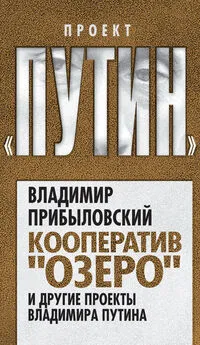Владимир Касютин - Фрумсум Фруниско
- Название:Фрумсум Фруниско
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:2020
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Касютин - Фрумсум Фруниско краткое содержание
Фрумсум Фруниско - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Кто из советских меломанов не знает по дефицитной магнитофонной плёнке «Славич» Переславля-Залесского. Не знаю, как в Переславле летом, осенью нас манило большое, как море, Плещеево озеро. Поезжайте по левой набережной реки Трубеж к Церкви Сорока Мучеников. Сядьте на скамейку и обратите взор на воду. Успокоились – двигайтесь к волшебному Синему камню, реликвии мерян. Держите курс на Никитский монастырь. Спуститесь к роднику испить воды. Далее – к Национальному парку. Спешите, камень, укрываясь от бесцеремонных туристов, погружается в землю.
Прохладная погода и прогулки способствуют аппетиту. Проезжая по Переславлю, мы заметили строение в немецко-голландском духе.
Селёдочный ресторан демонстрировал изобилие блюд из любимой северными народами рыбы, даже мороженое, но крепкими напитками не располагал. Гости юркали в соседский магазинчик за мерзавчиком или чекушкой. Сиживали в трактире «Попов луг» в нескольких километрах от города, в этих местах Пётр Первый строил потешный флот. Бревенчатая изба, лавки, русская печь, дебёлые официантки в сарафанах до полу. Эх, а подайте уху ростовскую, да щи кислые, да голяшку баранью, да в сметане карасей, из кадушки соленья, да с капустой пирог под хреновуху да медовуху! Гуляй, босота! У лавок трётся толстый рыжий Вася. Мы его гладили и угощали. Он мурлыкал и хмыкал, да как цапнет меня за руку! Вот тебе и Вася-кот.
Причалив на пару часов на корабле к ярославской пристани, увлеклись прогулкой по набережной, едва не опоздали к отплытию. Бежали с Владимир-Владимировичем высунув языки без малого три километра.
Проходил международный матч, в город съехались сотни болельщиков. К каждой группировке прикрепили милиционеров, они скромно держались на отдалении. Зеваки бросали монетки у памятника Троице, стараясь попасть в ямку, наполненную дождевой водой. Звонарь бил в колокола. В парке на Стрелке юнцы-качки демонстрировали мускулы, отжимаясь на асфальте. Туристы скупали оптом сувениры с символом города – медведем с секирой. Берегом двигался удивительный гражданин. Небритый и в помятой одежде, он вёл на длинном поводке крысу.
VII.
Запах Сауны
Семиглазая
Глухарь
Два Монаха
Длинная Рука
Фальшивый Цыган
Дело Сусанина
«Чьи наряднее проспекты, чьи дома – спорит Вологда и спорит Кострома», – пелось в простенькой песенке семидесятых годов. Какие уж там нарядные проспекты, Вологда и Кострома – сёстры по печальной судьбе в двадцатом столетии.
– В Вологде пахнет сауной, – заявила дама с претензиями, искавшая резной палисад. И верно, летом богатое архитектурное наследие, отчасти разбазаренное, благоухает распаренным деревом. Палисад туристка не нашла. Остроумные вологодцы отправляли её в кожно-венерологический диспансер, якобы именно он отображён в песне.
– Где же моя семиглазая, где? – напевал Брат-Боря в детстве. С Великим Песняром я познакомился в конце восьмидесятых перед концертом на стадионе кубанской станицы:
– Правда, что на репетициях ваши музыканты пьют ковшом вино из ведра?
Хмурилось, музыканты накрывали плёнкой аппаратуру. Разразился ливень, концерт, невзирая на небольшое количество зрителей, состоялся. Вина белорусы не требовали.
«Песни у людей разные, а моя одна на века» – я впервые услышал на маленькой запиленной пластиночке, когда в моде были другие ритмы и звуки. Миньон, как и десятки других дисков моей коллекции, похитил сосед- воришка, попросил воды и пока я ходил, выставил стопку за окно.
Спустя пару десятилетий песня обрела новую жизнь. Сочинителя – вологодскую поэтессу я увидел на пышной праздничной церемонии. Ведущая, умильно читающая по бумажке, пыталась склонить её к заказанному спонсорами ответу. Вологжанка, несмотря на почтенный возраст, держалась строго и прямо, не пожелав играть по чужим правилам. Призналась, что не сразу приняла музыку, отдала долг мастерству композитора.
«Звёздочку» спел первый и лучший солист «Цветов». С ним мы проговорили полночи, я исписал целый блокнот, вышло интервью на страницу, обчекрыженное боязливым редактором. Тот пугался разговоров о Боге, о личной жизни, оценок, кто есть кто в эстрадном цеху. Настоящих артистов певец сравнивал с Христом – они также отдают себя людям. Демонстрируя знание темы, я стал перечислять армию музыкантов, прошедших школу «Цветов», собеседник скривился:
– Все были способными, лишь одного не смог научить петь, мы его называли – глухарь.
В девяностые глухарь не вылезал с романсами с телеэкранов.
Я нацелил объектив на птиц, пунктиром пролетающих над куполом Спасо-Прилуцкого мужского монастыря, и вздрогнул от окрика:
– Не смейте меня фотографировать! – вопил монах, прикрываясь пустым ведром. Его собрат, спокойнее нравом, демонстрировал недюжинные знания в области стихосложения, водил группу по монастырю, цитируя русских поэтов: «Не нужны надписи для камня моего, пишите просто здесь: он был, и нет его!»
Памятник Батюшкову на Соборной горке у Софийского собора прозвали конём, скульптор уделил больше рвения скакуну, чем поэту. Это лучшее место в городе – внизу неторопливая Вологда, на противоположном берегу радуют глаз старинные силуэты.
Вологжане – народ с выдумкой. Нас, троих взрослых господ, едва не уложили в одну кровать – хотели порадовать, а может, сэкономить. Пригласили на юбилей и не выпустили на сцену с праздничным поздравлением.
Труден путь в резной палисад. Меньше пятисот километров от Москвы. Старомодным тихоходным составом с долгими остановками тащишься ночь.
Кострома ближе к столице, но и сюда быстро не доберёшься. Дело Сусанина живёт и побеждает.
«Куда ты ведёшь нас? Не видно ни зги!
Сусанину с сердцем вскричали враги».
Оригинал, написанный в девятнадцатом веке Рылеевым, разбудил народное вдохновение. Будущий декабрист вкладывал в свои рифмы высокие чувства.
«Снег чистый чистейшая кровь обагрила,
Она для России спасла Михаила!»
Советский народ, заземляя пафос, оживлял драматический персонаж. Костромской старец вступил в строй мифических персонажей между Чапаем и Штирлицем.
Куда ты ведёшь нас, Сусанин-герой?
Идите вы на фиг, я сам здесь впервой.
Сусанин спас юного Михаила Романова, укрывшегося в Ипатьевском монастыре от поляков. Кострома, вотчина царской династии, впала в немилость у новой власти. Ипатьевская слобода, приютившая Романовых, сохранилась лучше города, который похож на породистую собаку, потерявшую кров.
На высоком берегу Волги – символ эпохи, когда захват чужого стал делом правым, он вызывает из памяти зловещую статую с растопыренными над землёй пальцами из романа Стругацких «Град обреченный».
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: