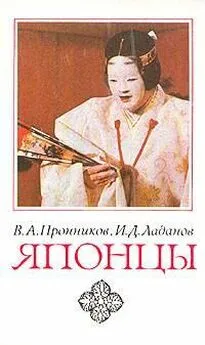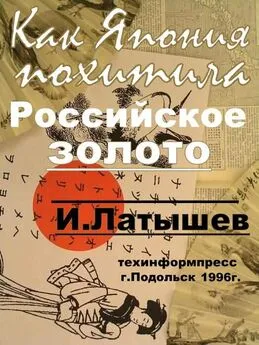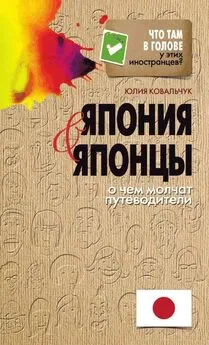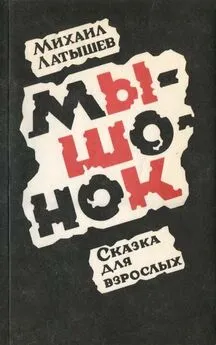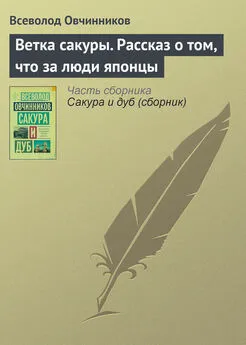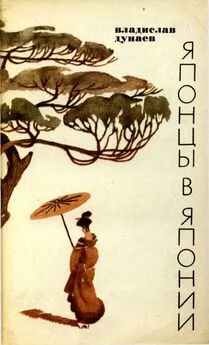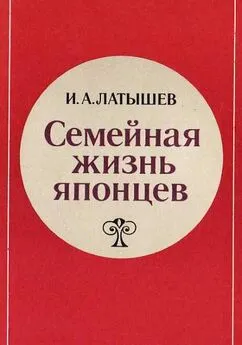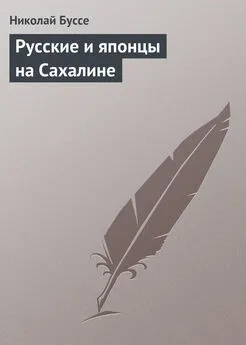Игорь Латышев - Япония, японцы и японоведы
- Название:Япония, японцы и японоведы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Латышев - Япония, японцы и японоведы краткое содержание
Япония, японцы и японоведы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Но трудность в налаживании добрососедских отношений Советского Союза с Японией крылась не только в общем ходе мировых событий и в советско-американском военном противостоянии. Препятствия возникали периодически и в результате скрытого, а порой и открытого противодействия улучшению отношений Японии с Советским Союзом со стороны руководства японского министерства иностранных дел, лидеров отдельных политических группировок в правящей либерально-демократической партии, а также в некоторых партиях парламентской оппозиции. Большой вред японо-советскому добрососедству причинила также и японская коммерческая пресса, систематически искажавшая миролюбивые начинания советского руководства, подвергая сомнениям и очернению многие из советских политических инициатив того периода.
Начиная с 60-х годов чем далее, тем более раскручивали японские правительственные чиновники, а также антисоветски настроенные политики и журналисты, кампанию территориальных притязаний к Советскому Союзу под флагом "возвращения Японии северных территорий", под которыми имелись в виду прежде всего четыре южных острова Курильского архипелага: Кунашир, Итуруп, Хабомаи и Шикотан. Поэтому одну из важнейших задач своей журналистской работы в Японии в те годы я видел в противодействии этой кампании, в раскрытии враждебных нашей стране замыслов ее организаторов, в показе на конкретных примерах неправомерности, незаконности тех требований, которые предъявлялись нашей стране. К сожалению, в этом вопросе мои статьи по своей тональности не всегда совпадали с нечеткими высказываниями наших дипломатов.
В принципе в то время советская дипломатия на уровне высших руководителей проводила твердую линию на отклонение японских территориальных притязаний как "необоснованных и незаконных", что нашло свое отражение в ряде заявлений Л. И. Брежнева и А. А. Громыко. Во время визита А. А. Громыко в Токио, состоявшегося в январе 1976 года, попытки японской стороны навязать советскому министру иностранных дел дискуссию по так называемому "территориальному вопросу" получили с его стороны твердый отпор, и дискуссия не состоялась. Как рассказывали мне потом некоторые сотрудники посольства, в беседах с ними в узком кругу Громыко не раз подчеркивал необходимость демонстрации нашими дипломатами твердости в отношении японских территориальных домогательств. "Говоря "нет" японской стороне,- разъяснял он,- вы должны подтверждать это не только на словах, но и глазами - своим непреклонным взглядом, а то у наших дипломатов бывает и так, что язык говорит одно, а глаза - другое". Согласие советского руководства продолжать в те годы переговоры с Японией о заключении мирного договора между обеими странами вовсе не означало его готовности обсуждать на этих переговорах некую "нерешенную территориальную проблему", под которой имелись в виду споры, связанные с японскими притязаниями на Южные Курилы. О негативном отношении советского руководства к японским территориальным домогательствам ясное представление давало, например, опубликованное в Японии, как и в Советском Союзе, в апреле 1977 года интервью Л. И. Брежнева главному редактору газеты "Асахи" Хата Сэйрю, в котором говорилось: "Известно, что мирные договоры, как правило, охватывают широкий комплекс вопросов, в том числе о линии прохождения границы. Это относится и к советско-японскому мирному договору. Говорить же, что в отношениях между нашими странами есть какая-то "нерешенная территориальная проблема" - это одностороннее и неверное толкование"19.
Не желая создавать тупик в советско-японских переговорах, направленных на упрочение добрососедских отношений двух стран, советское руководство предприняло в те годы попытку продвинуть эти отношения вперед путем заключения между Советским Союзом и Японией "Договора о добрососедстве и сотрудничестве". Предложенный советской стороной договор был призван закрепить те полезные достижения, в контактах и сотрудничестве двух стран, которые наметились в годы, минувшие после московских переговоров 1973 года. При этом в предложениях содержалась оговорка: подобный договор не исключал продолжения переговоров о заключении советско-японского мирного договора. Однако эта инициатива МИД СССР, предпринятая А. А. Громыко во время его переговоров в Москве с японским министром иностранных дел Сонодой Сунао, не встретила в Японии благожелательного отклика. Японский МИД бесцеремонно уклонился от рассмотрения в конструктивном духе советского предложения, а коммерческая пресса воспользовалась этим предложением лишь для публикации различных антисоветских домыслов, а заодно и для дальнейшего развертывания пропагандистской кампании за склонение Советского Союза к уступкам японским территориальным требованиям.
К сожалению, реакция аппарата МИД и посольства СССР на усиление в Японии активности поборников территориальных притязаний к нашей стране была на протяжении 70-х годов весьма вялой. Судя по моим наблюдениям, руководство советского посольства в Токио лучшим ответом на японские территориальные домогательства считало замалчивание этих домогательств и уход от любой публичной полемики по данному спору с японским правительством. А это, как мне думается, вело тогда к отрицательным последствиям.
Во-первых, наша вялая реакция на японские территориальные домогательства воспринималась токийскими политиками как проявление слабости Советского Союза и боязни испортить отношения с Японией в условиях продолжения "холодной войны".
Во-вторых, японцам начинало казаться, что у советских политиков и дипломатов отсутствуют весомые контраргументы в отношении их требований требований, обставлявшихся обычно всевозможными историческими и юридическими домыслами.
В-третьих, нежелание нашего мидовского руководства подробно информировать нашу общественность о японских территориальных домогательствах и давать им соответствующую оценку лишало советских людей ясного понимания сути дела. И более того, идеологически разоружало их перед лицом нараставшего пропагандистского наступления Японии.
Наконец, в-четвертых, наше уклонение от дискуссий с японцами по данному вопросу отрицательно сказывалось на японском общественном мнении, которое становилось все более монолитным под влиянием повседневной интенсивной пропагандистской обработки его поборниками передачи Южных Курил Японии.
Страусиная политика посольства СССР в территориальном споре с Японией была продиктована заведомо ошибочной мыслью о необходимости во имя упрочения советско-японского добрососедства уклоняться от дискуссий и твердого отпора японским территориальным домогательствам. Убеждение в том, что молчание - это лучший ответ на японские территориальные домогательства, гнездилось тогда, судя по всему, и в умах некоторых из престарелых членов Политбюро ЦК КПСС, которым в те годы все больше хотелось избегать любых международных конфликтов во имя своего личного спокойствия. Это чувствовали, судя по всему, руководители посольства СССР в Токио, когда они составляли бумаги, шедшие "наверх" - в ЦК КПСС. И здесь, мне думается, роль Трояновского как дипломата была не всегда безупречной. При всей симпатии к нему как интеллигентному, порядочному, хорошо воспитанному и проницательному человеку я не мог не замечать без досады его слишком мягкого и снисходительного отношения к японцам - к их тогдашнему враждебному нашей стране политическому курсу. Упоминая об этом, я вовсе не собираюсь сбрасывать со счетов его большой и полезный вклад в дело развития советско-японских отношений. На фоне других советских государственных чиновников Трояновский смотрелся прекрасно. В его лице японцы увидели иной, редко встречавшийся тогда тип советского дипломата, который в отличие от выходцев из партийно-номенклатурной среды ничем не отличался от дипломатических представителей и государственных деятелей Запада. За семь с лишним лет, проведенных Трояновским во главе советского посольства в Токио, общее отношение японской прессы, да и японских политиков и мидовских чиновников к посольству СССР как советскому учреждению стало менее холодным, хотя, разумеется, принципиальных изменений в японском политическом курсе не произошло, ибо в наши дни личные качества послов, что бы ни писали они в своих мемуарах, не оказывают серьезного влияния на межгосударственные отношения.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: