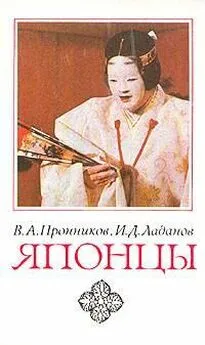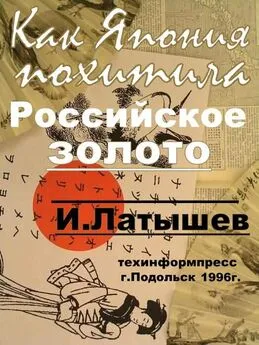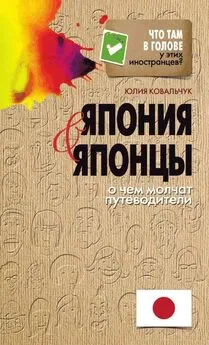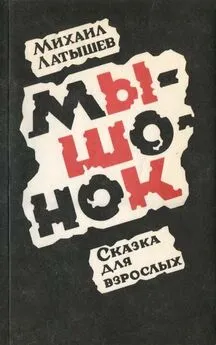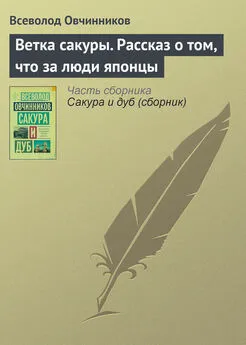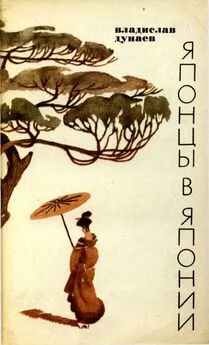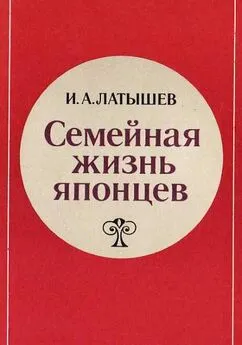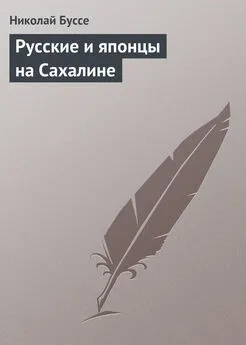Игорь Латышев - Япония, японцы и японоведы
- Название:Япония, японцы и японоведы
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Игорь Латышев - Япония, японцы и японоведы краткое содержание
Япония, японцы и японоведы - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Когда разговоры о предстоящем визите Брежнева в Японию принимали время от времени видимость правдоподобия, мне становилось грустно, ибо я представлял себе, какая кутерьма началась бы в этой связи в наших средствах массовой информации. Ведь в этом случае наверняка в Японию нагрянули бы в преддверии визита толпы настырных журналистов из числа моих соотечественников, а из редакции "Правды" посыпались бы в мой адрес один за другим заказы на интервью и статьи самых видных японских государственных деятелей. Для корпункта "Правды" это было бы нечто похожее на тайфун...
Но, к счастью, кто-то в Кремле из числа влиятельных членов Политбюро, скорее всего А. Громыко, оказался достаточно благоразумным, чтобы не поддаваться заманчивым предложениям руководителей посольства в Токио, и похоже, что их докладные записки о желательности визита в Японию Л. И. Брежнева были в конечном счете проигнорированы.
Упомянутые выше инициативы находившихся в Японии советских дипломатов, рассчитанные на благосклонный отклик на них московского начальства, являли собой в моих глазах не столько сильные, сколько слабые стороны в деятельности посла - Олега Александровича. В них находила свое отражение вся его прошлая служебная карьера в качестве личного переводчика больших кремлевских начальников - карьера, которая развила в нем не столько самостоятельность в принятии решений, не столько бойцовские качества, сколько таланты и мудрость царедворца, привыкшего руководствоваться прежде всего персональными интересами и помыслами высшего кремлевского руководства.
Олег Александрович Трояновский возглавлял советское посольство в Японии до апреля 1976 года. Его отъезд из Токио был воспринят и дипломатами и журналистами с удивлением, так как всем было известно уважительное отношение к нему министра иностранных дел А. А. Громыко. Удивлен был тогда и сам Трояновский, так как незадолго до того министр ориентировал его на дальнейшее пребывание в Японии. Но всем все стало ясно, когда из Москвы пришло известие о том, что новым советским послом в Японии был назначен Дмитрий Степанович Полянский, бывший член Политбюро ЦК КПСС, освобожденный от этой должности на прошедшем до того XXV съезде КПСС. Трояновского поспешно отозвали на Родину лишь потому, что кто-то из высших кремлевских руководителей, а скорее всего, сам Брежнев, торопился удалить из Москвы одного из своих ближайших сподвижников, чем-то не оправдавшего его доверие.
Приезд Д. С. Полянского в Японию не внес сколько-нибудь существенных изменений в тогдашнее состояние советско-японских отношений. Объяснялось это тем, что для Полянского абсолютно незнакомыми были как страна, в которой он вдруг оказался, так и специфика дипломатической работы, которой он никогда ранее не занимался. В течение нескольких месяцев после своего прибытия в Токио новый посол предпочитал потому не вмешиваться в рутинные дела посольства, давая возможность посольскому аппарату во главе с советником-посланником И. Н. Цехоней работать по инерции, руководствуясь прежним порядком и установками, сложившимися еще при Трояновском. Курс на сохранение дружбы с Японией любой ценой, проводившийся ранее, претворялся в жизнь многоопытными мидовскими чиновниками, окружавшими повседневно нового посла, столь же последовательно и столь же бездумно, как и прежде. А между тем такой курс не всегда оправдывал себя. Так случилось, к примеру, в сентябре 1976 года, когда на японском аэродроме города Хакодатэ (остров Хоккайдо) приземлился новейший советский военный самолет-перехватчик МиГ-25, пилотировавшийся пилотом-дезертиром Беленко. Тогда в Москве кое-кому из высших советских военных руководителей очень не хотелось признать тот факт, что этот мерзавец преднамеренно по предварительному сговору с американцами угнал за рубеж самолет новейшей конструкции, чтобы передать его за мзду в руки экспертов Пентагона, жаждавших заполучить еще неведомую им новинку. Поэтому в Москве была запущена в прессу заведомо нелепая версия, будто пилот заблудился и будто он даже пытался сопротивляться окружившим его на посадочной полосе японским служащим "сил самообороны". Однако сообщения японских газетных и телевизионных репортеров, фотоснимки и магнитофонные записи первых же заявлений пилота-дезертира не оставили сомнений в том, что Беленко рвался с японского аэродрома не на Родину, а на военную базу США - Мисаву, куда он и летел, но не смог долететь из-за нехватки топлива. Действительная ситуация стала ясной работникам посольства СССР в Токио на следующий же день. Но, вместо того чтобы решительно потребовать от японцев немедленного возврата похищенного преступником военного имущества нашей страны - самолета, что вполне отвечало нормам международного права, посольское руководство предпочло в течение нескольких дней руководствоваться первоначальной, заведомо никчемной версией, даже после того как при очной встрече с посольским офицером безопасности и консулом, упомянутый дезертир с матерной бранью отверг их предложения вернуться на Родину. Противились также посольские чиновники попыткам советских журналистов направлять в свои московские редакции правдивую информацию по поводу поведения пилота-перебежчика - противились, продолжая в угоду московскому начальству придерживаться все тех же фальшивых версий, не стесняясь при этом выставлять себя полными идиотами перед японским властями и прессой. Нерешительность руководства посольства СССР в Токио, его нежелание применить в отношении Японии какие-то ответные, и притом крутые, меры воздействия, его медлительность в требованиях немедленного возврата Советскому Союза похищенного самолета привели к тому, что японские власти, распоясавшись, сочли возможным совместно с группой военных экспертов США отправить самолет в другой район страны и разобрать его там на части с целью детального изучения секретов его конструкции, навигационного оборудования и вооружения. Прошло более двух месяцев, прежде чем отдельные детали нашего новейшего истребителя. разобранного на части, были в ящиках возвращены нашей стороне. При этом никакого возмездия за это откровенно наглое обращение с похищенным имуществом Советского Союза японская сторона так и не понесла. Порочность установки на то, что "дружба" с Японией важнее национальных интересов собственной страны", проявилась в этом происшествии с предельной ясностью.
Более жесткого отпора, чем это было на деле, требовали в те годы и настырные посягательства правительства Японии на принадлежавшие Советскому Союзу южные Курильские острова. Такой отпор если и давался, то не столько посольскими работниками, сколько приезжавшими в Японию делегациями. Так было, например, когда делегация Комиссии по иностранным делам Верховного Совета СССР во главе с М. В. Зимяниным (главным редактором "Правды"), прибывшая в Японию в конце февраля 1974 года, встретилась с японскими парламентариями, затеявшими спор по поводу якобы вероломного вступления Советского Союза в войну с Японией в 1945 году и "незаконного захвата" Курильских островов. Присутствуя на этой встрече, я получил удовольствие от того, как четко, твердо и жестко отвечал глава нашей делегации М. В. Зимянин на развязные попытки японских парламентариев предъявить Советскому Союзу необоснованные обвинения в "агрессии", построенные не столько на фактах, сколько на пропагандистских домыслах. Упоминаю я об этом не потому, что Зимянин был в то время моим начальником, а потому, что он оказался человеком совершенно иного склада характера, чем те карьерные дипломаты, которые работали тогда в посольстве. Это был не папенькин сынок, а выходец из народа - сын белорусского крестьянина, самоучкой освоивший грамоту, затем сражавшийся в годы войны в партизанском отряде, а далее ставший одним из высоких партийных руководителей Белоруссии, и не по чьей-то протекции, а благодаря своим личным волевым качествам, уму и организаторскому таланту. И ему поэтому не было свойственно бояться за каждое неосторожно оброненное слово, как того боялись едва ли не все посольские работники. В Токио я провел в его обществе лишь дня два и проникся к нему глубоким уважением. Уж очень трезво смотрел он на ход событий в нашей стране и на перспективы советско-японских отношений. Не отказался он, между прочим, побывать вместе со мной в качестве стороннего наблюдателя на массовом митинге участников "весеннего наступления" японских профсоюзов, хотя это могло и не понравиться кому-либо из японских властей и наших дипломатовперестраховщиков. Позабавило меня только его прощание со мной на аэродроме при отлете делегации на Родину. Обняв меня, он вполне серьезно сказал мне: "Ну, крепись!" - хотя, находясь в Японии, я прежде никогда не чувствовал какой-либо опасности, связанной с моей журналистской работой. Кстати сказать, спустя год-два Зимянин покинул пост главного редактора "Правды" и был избран кандидатом в члены Политбюро и секретарем ЦК КПСС по идеологической работе. Но больше с ним встречаться мне не приходилось.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: