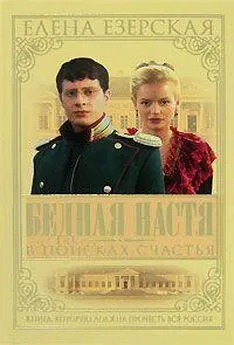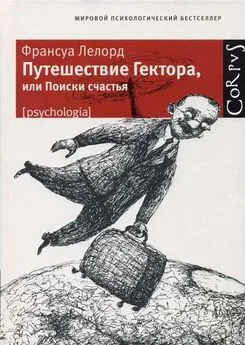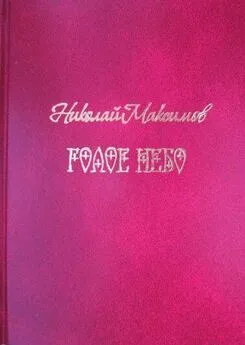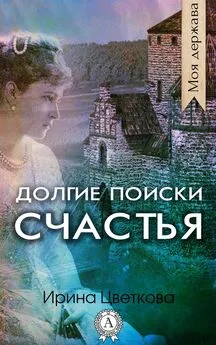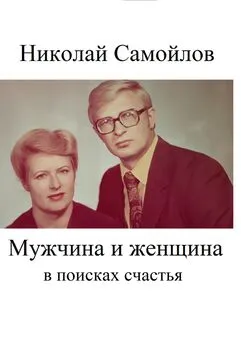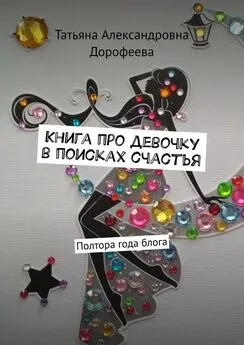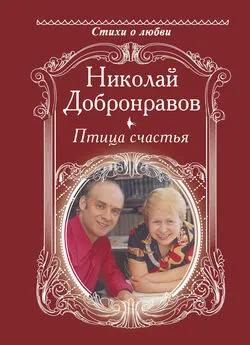Николай Максимов - Поиски счастья
- Название:Поиски счастья
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Дальневосточное книжное издательство
- Год:1965
- Город:Владивосток
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Николай Максимов - Поиски счастья краткое содержание
Роман о судьбе русских поселенцев Аляски и коренных жителей Чукотки. Действие происходит в начале XX века. Герои романа каждый по-своему понимают, что такое счастье. Для потомка русских поселенцев Андрея Устюгова, понимающего, что скоро на Аляске не станет русского уклада жизни, — это возвращение на родину своих предков, в Россию. Для молодого чукчи Тымкара — это винчестер и шкуры, другие подарки для задабривания своего будущего тестя, отца любимой девушки. Для революционера Кочнева — это всеобщее счастье. Он не может быть счастлив, если несчастны окружающие его люди.
Роман был закончен в 1952 году и выдвигался на Сталинскую премию. Но Сталин умер, и премия не состоялась.
Поиски счастья - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Только парни и девушки еще не возвращались домой. И допоздна в Михайловском редуте звучали широкие и вольные русские песни.
Глава 22
ПЕРВЫЕ ГОДЫ
В год выезда с Чукотки Богораза Дина к мужу не приехала. Напрасно Иван Лукьянович спешил на берег, вглядывался в незнакомые лица, обежал весь пароход: в списке пассажиров Кочнева не значилась.
Дочь чиновника, Дина окончила Бестужевские курсы. Изучала языки, литературу, историю, философию, имела право занять должность преподавателя. Но ее родители, люди достаточно обеспеченные, не видели в этом надобности. Они баловали свою единственную дочь. Однако дочь, как говорил отец, лишилась рассудка, решила скомпрометировать его доброе имя, собираясь ехать в ссылку к революционеру.
Дина любила мужа. Она вышла за него, когда он был студентом медицинского факультета. Ей нравились его пылкий и горячий ум, свободомыслие и любовь к людям. Она помнит его яркое выступление в марксистском кружке, куда он однажды взял ее с собой.
Впрочем, все эти качества мужа и свое отношение к нему она определяла для себя очень коротко — всего тремя словами: «смелый, умный, люблю!»
Дина не считала себя революционеркой да и не могла считать. Однако в ее характере было нечто такое, что привлекло к себе Кочнева. Она поступила на Бестужевские курсы, куда шли передовые женщины, а не те, кто готовил себя в жены старикам-генералам или сановникам, любила жизнь свободную, непринужденную.
Так, однажды приведя Кочнева к себе домой, девушка заявила родным:
— Знакомьтесь! Мой жених. Свадьба наша будет в следующее воскресенье.
Супруги Любицкие вначале приняли это за шутку, хотя и знали характер дочери. Но оказалось, что Дина не шутила.
— Вы с ума сошли! — говорили ей теперь знакомые отца, узнав, что она собирается к мужу в Сибирь.
— Почему? — спокойно отвечала молодая женщина. — Я считаю, что только так и должна поступать жена.
Она не рисовалась. Ее поступки соответствовали характеру. В студенческие годы ей не были чужды революционные идеи, и теперь, под влиянием мужа и книг, прочитанных за последнее время, она разделяла взгляды марксистов на революцию.
Кочнев говорил ей, что видит в ней не только жену, но и духовно близкого друга, и она охотно откликалась на эту дружбу.
Выезду Дины в Сибирь воспрепятствовали родители; после ареста мужа она снова жила с ними. Отец и мать долгое время уговаривали дочь не делать глупостей, смириться, забыть. Бесполезно. Тогда ей было отказано в средствах «а дорогу. Она поступила на службу, чтобы скопить необходимую сумму. Однако на следующий год отец принял закулисные меры и помешал ей получить необходимые для проезда документы. Дина демонстративно ушла из родительского дома. Потом она заболела, долго лечилась, но не оставила мысли о поездке к мужу. Не поступить так, как поступили жены сосланных в Сибирь декабристов, она просто не могла.
После выздоровления Дина разыскала некоторых товарищей Кочнева. Они одобрительно отнеслись к ее планам, обещали помочь, но вскоре в Петербурге начались горячие дни, и выехать к мужу она смогла только в июне 1906 года, а пока добралась до Владивостока, наступил уже август. Здесь пришлось долго ждать парохода. Правда, хлопотала о своем отплытии она не сама. Друзья мужа снабдили ее достаточным количеством рекомендательных писем, чем значительно облегчили путевые мытарства.
Перед самым отъездом из Петербурга произошло примирение с родителями, и отец Дины обещал похлопотать о Ване, чтобы ему сократили срок ссылки.
Все эти годы Кочнев терпеливо ждал жену, не теряя надежды на встречу. Он знал о ее ссоре с родными, о болезни, словом, обо всем, что с ней происходило и о чем она подробно сообщала. Какой праздник наступал у Ивана Лукьяновича, когда приходил пароход, а вместе с ним и письма от Дины! Увы, этот праздник случался лишь раз в году… Зато корреспонденции приходило столько, что на ее чтение уходил не один день. Во-первых, писала очень часто Дина, за год во Владивостоке скапливалось до двадцати-тридцати ее пространных писем; во-вторых, Кочнева не забывали друзья, родные, все они слали книги, газеты, посылки.
Многое узнавал Иван Лукьянович от своих корреспондентов, но далеко не все, что ему хотелось. Намеки, недомолвки, умолчания, многоточия не давали возможности составить полную картину о жизни в России. Однако и из тех сведений, которыми он располагал, ему было ясно: в стране назревает революция. Кочнев старался активизировать свою деятельность. С этой целью он часто ездил с чукчами на охоту, ходил в соседние села под видом оказания медицинской помощи. Имя лекаря Ван-Лукьяна с каждым годом становилось популярнее у охотников и ненавистнее у шаманов.
Минувшей осенью вместе со своим «благодетелем-купцом» опальный студент выезжал на обменную ярмарку к оленеводам. Познакомился с пастухами Кутыкаем и Кеутегином, с Гырголем, Омрыквутом, Лясом, с женами и дочерью главы стойбища. Случайно узнал историю с Амвросием, вспомнил рассказ Богораза о Тымкаре.
Ивана Лукьяновича обычно сопровождал Элетегин. Его рекомендация быстро располагала чукчей к ссыльному. Впрочем, лучшей рекомендацией было поведение самого Ван-Лукьяна. Он не занимался вымогательством пушнины, не требовал платы за лекарства (как здорово оно помогало от чесотки!), мало того, он даже отказывался от подарков.
При первом знакомстве чукчи относились к Кочневу настороженно, как и ко всем людям «другой земли», но когда он уезжал из стойбища или поселения, о нем говорили только добрые слова. Ван-Лукьян лечил, рассказывал «сказки», интересовался жизнью людей, разъяснял, что правильно и чего не должно быть, советовал, как следует поступать.
Особенно охотно Кочнев общался с пастухами и бедными охотниками. После его отъезда из стойбища Омрыквута Кутыкай сказал Кеутегину:
— Ты молчи, Гырголь узнает — этки [21] Плохо
.
Пастухи опасались, чтобы хозяин не пронюхал, о чем они беседовали с Ван-Лукьяном. Собственно, сами они говорили мало, больше слушали, но даже слушать такие слова опасно.
Иван Лукьянович уверял, что по всей земле бедняки готовятся собраться вместе и прогнать богатых оленеводов. В самом деле, рассуждали пастухи, зачем Омрыквуту столько оленей? Впрочем, эти мысли высказывал Ван-Лукьян, а Кутыкай и Кеутегин только размышляли над ними.
Кочнев сожалел, что не может часто общаться с беднотой из отдаленных стойбищ и селений, но он знал через Элетегина и других чукчей, что слова его крепко западают в души охотников. Это вселяло уверенность, что в час восстания в России люди хоть в какой-то степени будут подготовлены. Иван Лукьянович чувствовал, что сам факт его длительного проживания на Чукотке и общения с народом — явление положительное. Что больше мог он сейчас, в своем положении, сделать! Ведь по существу он и так подрывал устои старого мира, и уже одно это небезопасно. Чего скрывать, случались минуты, когда Кочневу казалось, что его вот-вот арестуют и снова будут судить.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: