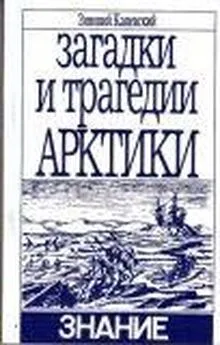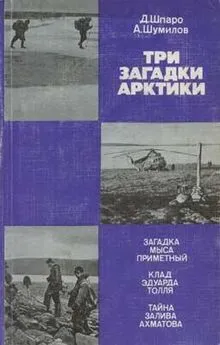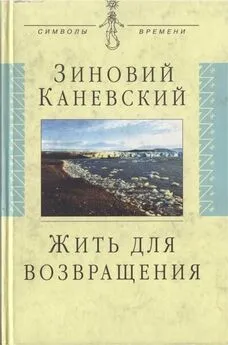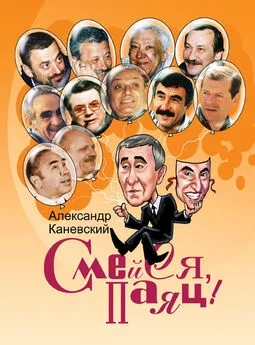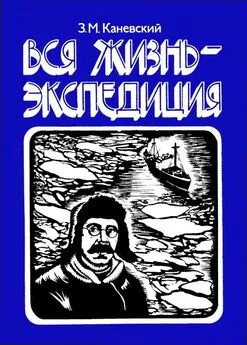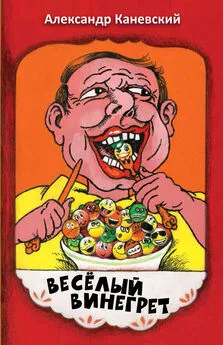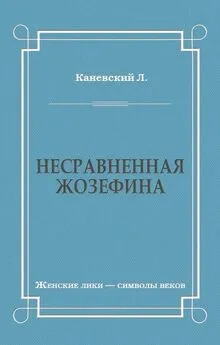Зиновий Каневский - ЗАГАДКИ И ТРАГЕДИИ АРКТИКИ
- Название:ЗАГАДКИ И ТРАГЕДИИ АРКТИКИ
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:«ЗНАНИЕ»
- Год:1991
- Город:Москва
- ISBN:5-07-001317-3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Зиновий Каневский - ЗАГАДКИ И ТРАГЕДИИ АРКТИКИ краткое содержание
Загадочное и трагическое, идут в Арктике рука об руку. Погибшие и исчезнувшие экспедиции далекого прошлого, суда Русанова и Брусилова, пропавшие уже в XX в., исчезнувший самолет Сигизмунда Леваневского, секреты, связанные с эпопеей спасения ледоколом «Красин» генерала Нобиле, таинственная Земля Санникова и подобные ей острова-миражи в Ледовитом океане — об этом и многом другом читатель узнает из книги. И еще об одной, наименее известной странице истории Крайнего Севера — об уничтожении советских полярников (моряков, летчиков, зимовщиков) в 30—50-е гг. нашего столетия.
ЗАГАДКИ И ТРАГЕДИИ АРКТИКИ - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Причина открылась через месяц-другой, когда Ермолаева вновь арестовали и привели на очередной допрос. Следователь с удовольствием предъявил Михаилу Михайловичу собственноручные показания «беглеца из очереди» — прославленный арктический исследователь, Герой и депутат, он обвинял своего коллегу и товарища во вредительстве...
Общий перечень обвинений выглядел убийственно. Там были и шпионаж в пользу Запада, и тесное знакомство с «врагами народа» (куда уж теснее — родственник Самойловича!), и связь с иностранцами (а она, как говорится, имела место, поскольку школа профессора Самойловича славилась своими международными научными контактами). Один из пунктов обвинительного заключения гласил, что Ермолаев занимался «вредительским отрывом народных средств на бесплодное изучение морского дна»! Сегодня свыше четверти мировой добычи нефти ведется на шельфе, т. е. мелководном морском дне, но разве обязаны были следователи НКВД знать геологию малых глубин северных морей?!
Ермолаева изощренно допрашивали и в Ленинграде, и в Москве. В «работе» принимал участие сам Гоглидзе, один из наиболее преданных подручных Берии, расстрелянный уже в ранге генерал-полковника вместе с «хозяином». Он угощал арестанта чаем с пирожными и тут же, без перерыва, хлестал его плеткой по лицу. Почему-то «компетентным органам» были позарез необходимы письменные показания против академика Владимира Афанасьевича Обручева и трех его сыновей-геологов, кому-то очень мешал этот редкостный клан исследователей... Написать такой донос Ермолаев категорически отказался, как отказался хоть в чем-то признать себя виновным. Взбешенный упорством допрашиваемого, Гоглидзе кричал, избивая его:
— Ты будешь, в конце концов, давать правдоподобные показания?!
На что Михаил Михайлович реагировал с непокинувшим его даже в той обстановке чувством юмора:
— Ни за что! Я буду говорить только правду.
...Не раз встречаясь с Ермолаевым в Москве, Ленинграде и Калининграде, расспрашивая его о пережитом, я старался понять, как он выдержал и выжил, почему не озлобился. На все вопросы Михаил Михайлович отвечал с доброй и чуть грустной улыбкой. Выжил, потому что повезло, проще сказать — посчастливилось, да и очень хотелось выжить, все время теплилась надежда, а надежду дала ему Арктика, в которой он столько раз погибал, однако все-таки не погиб! Что же касается озлобленности, «наверное, такой уж у меня незлобивый характер, к тому же мои мучители и без того получили со временем по заслугам, хоть и не все». И добавлял несколько строк из Пастернака:
Напрасно в годы хаоса
Искать конца благого.
Одним карать и каяться,
Другим — кончать Голгофой.
Наверно, вы не дрогнете,
Сметая человека.
Что ж, мученики догмата,
Вы тоже — жертвы века.
Словом, он не ожесточился, ни с кем не сводил потом счеты, разве что не подавал кое-кому руки. Я спросил, находились ли люди, заступавшиеся за оклеветанных, и он с готовностью воскликнул:
— Ну как же, как же! Вы ведь завтра, если я не ошибаюсь, едете в Комарово беседовать с одним маститым геологом. Так вот, передайте ему от меня низкий поклон, скажите, что я очень его люблю и прошу его дожить как минимум до девяноста, поскольку за восемьдесят он уже, слава Богу, перевалил! (разговор этот происходил в 1970 г., и мой комаровский собеседник выполнил просьбу Ермолаева, дожив до 1982 г.— 3. К.)
Речь шла о Дмитрии Васильевиче Наливкине, академике, Герое Социалистического Труда, лауреате Ленинской премии. В 1938 г. он был членом-корреспондентом АН СССР и, узнав об аресте молодого, но уже известного в научном мире геолога Ермолаева, направил в «органы» нечто вроде ручательства за коллегу. Это не помогло, но память о Поступке сохранилась навсегда.
Сравнительно недавно мы узнали об аналогичном благородном поступке другого академика, Дмитрия Николаевича Прянишникова. В то время, когда Николай Иванович Вавилов страдал в саратовской тюрьме, Прянишников храбро представил заключенного к Сталинской премии! Наверняка подобное случалось не раз в самые отчаянные времена. Быть может, именно это помогло уберечь нашу науку — да и только ли ее одну!— от полного уничтожения.
Ермолаеву пришлось отбывать восемь лет лагерей в самых гиблых местах Европейского Севера. Собственными руками прокладывал он трассу Воркутинской железной дороги и сумел в условиях лагерного ада изобрести новый метод укладки шпал в зоне вечной мерзлоты, за что ему даже скостили часть «срока», который в годы войны, правда, автоматически увеличился. Затем была ссылка в Архангельскую область, и домой Михаил Михайлович возвратился после тех же семнадцати — восемнадцати лет небытия, какие выпали на долю миллионов репрессированных. Вспомним Шаламова:
Я поднял стакан за лесную дорогу,
За падающих в пути,
За тех, кто брести по дороге не могут,
Но их заставляют брести.
За их синеватые жесткие губы,
За одинаковость лиц,
За рваные, инеем крытые шубы,
За руки без рукавиц.
За мерку воды — за консервную банку,
Цингу, что навязла в зубах,
За зубы будящих их всех спозаранку
Раскормленных серых собак,-
За солнце, что с неба глядит исподлобья
На все, что творится вокруг,
За снежные, белые эти надгробья,
Работу понятливых вьюг...
Один за другим исчезали люди, связанные с Самойловичем, хотя не все погибали именно в 1937 или 1938 г. Нет сомнений в том, что в нужный момент и ему самому припомнили «преступную связь с врагом народа Горбуновым» (академик, секретарь Совнаркома, Николай Петрович, как мог, помогал становлению полярной науки), с «врагом народа Енукидзе».
Не стало Михаила Эммануиловича Плисецкого, героя гражданской войны, а затем генерального консула СССР на Шпицбергене и начальника треста «Арктикуголь». С каждым годом копи на этом архипелаге, открытые Русановым и Самойловичем, давали все больше угля. Советская «столица» Баренцбург превращалась в благоустроенный заполярный шахтерский поселок. В нем появился даже оперный кружок, поставивший в начале 30-х гг. «Русалку» Даргомыжского. Эту трогательную деталь можно было бы, как вы понимаете, и не приводить, если бы не одно обстоятельство: в роли Русалочки дебютировала на всесоюзной и мировой сцене восьмилетняя дочка генерального консула, ставшая впоследствии балериной Майей Плисецкой!
Погиб в заключении Павел Александрович Молчанов, изобретатель радиозонда. Он был рядом с Самойловичем на борту дирижабля «Граф Цеппелин», совершавшего в 1931 г. облет Западной Арктики. Во время той международной экспедиции в полярное небо были выпущены первые четыре молчановских шара-радиозонда. Это стало подлинным переворотом в метеорологии и аэрологии, вот только увидеть воочию все результаты своего замечательного изобретения профессору Молчанову было не суждено.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: