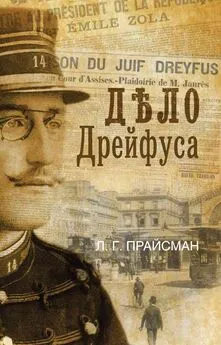Леонид Прайсман - 1917–1920. Огненные годы Русского Севера
- Название:1917–1920. Огненные годы Русского Севера
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Издательство «Нестор-История»
- Год:2019
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-4469-1652-8
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Леонид Прайсман - 1917–1920. Огненные годы Русского Севера краткое содержание
Эта работа является продолжением книги «Третий путь в Гражданской войне. Демократическая революция 1918 года на Волге» (Санкт-Петербург, 2015).
В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.
1917–1920. Огненные годы Русского Севера - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В партизанских отрядах, а затем в партизанских частях Северной армии существовала своя особая дисциплина, товарищеские отношения с офицерами, т. к. солдаты и офицеры знали друг друга с детства, сидели за одной партой, вместе охотились и рыбачили. Добровольский писал об этом: «Правда, офицерского в них (офицерах-партизанах. – Л. П. ) было очень мало, так как по своему образованию и развитию они очень мало отличались от солдатской массы, из которой вышли сами и для которой были мало авторитетны. Солдаты в них видели своих школьных и деревенских товарищей, и им трудно было признать над собой авторитет и дисциплинарную власть “Колек” или “Петек” и величать их “г-н поручик”, а часто даже “г-н капитан” или “г-н подполковник”, так как производство носило у нас интенсивный характер». Такие же отношения существовали на протяжении всей Гражданской войны в частях, созданных из рабочих Ижевска или Воткинска. Партизаны отличались особым героизмом. Добровольский писал: «Без рисовки и лишних слов, молча и упорно велась борьба не на жизнь, а на смерть за право работать на своем собственном клочке родной земле. Насчет военной муштры и точного соблюдения правил воинской дисциплины – здесь было неважно, и одетые в английское обмундирование “бородачи” так и оставались неуклюжими пахарями; однако несоблюдение мелочей военного артикула не носило тут вызывающего характера и не вызывало никаких опасений у военного начальства <���…>. В боевом отношении эти люди представляли собой исключительный по своей доблести материал» [414] Добровольский С. Ц . Указ. соч. С. 73–75.
.
У партизан была трудная судьба. Красные их ненавидели и за бескомпромиссную поддержку белого дела, и за жестокость по отношению к большевикам и красноармейцам, попавшим к ним в плен. К ним относились еще хуже, чем к белым офицерам. Б. Соколов, оказавшийся в плену после падения Северной области, рассказал типичную историю того, что ждало белых партизан, попавших в руки красных: «В числе десятка других нас вели по Мурманску. Кругом толпы жителей, красноармейцев. С диким ревом, озверевшие, они окружали нас, бросали в нас палками, камнями, кусками льда. Рядом со мной шел солдат немолодой, с густой бородой, по виду типичный крестьянин-северянин. Он тщательно прятал свое лицо, что меня удивило. К чему было солдату прятаться? В мурманской тюрьме нас тщательно обыскали, допросили. И здесь солдат был опознан. Его земляки узнали в нем партизана из “непримиримых”. Как они его били! Он не сказал ни слова. Его притащили в нашу камеру окровавленного, с выбитым глазом, с изувеченным лицом. Притащили и бросили на пол. Ночью он стонал, просил воды. <���…> Утром он – еле живой попросил комиссара “по важному делу”. Его вывели в коридор. Здесь он выхватил у часового ружье и штыком насмерть ранил комиссара. Другой часовой застрелил его. Говорили, большевики в свое время убили его брата…» [415] Соколов Б. Ф. Указ. соч. С. 23.
Солдаты Шенкурского батальона, в полном составе попавшие в плен, были помещены в здание Архангельского технического училища. Затем их небольшими группами отправили на лесозаготовки на Двину и там без лишнего шума расстреляли. Такая же участь ждала попавших в плен партизан. Других солдат белой армии, как правило, или отпускали по домам, или призывали в Красную армию.
Заканчивая раздел о белых партизанах, я все время задаю себе вопрос, являющийся для меня главным при написании этой работы. Крестьяне Севера, бесспорно, отличались от всего остального русского крестьянства. Это подчеркивали авторы всех воспоминаний о Севере, как русские, так и иностранные. Добровольский называл их «потомки Новгородской вольницы» [416] Добровольский С. Ц . С. 75.
. Соколов просто восторженно отзывался о них: «Смелые, привыкшие к своим непроходимым лесам, охотники, не испытавшие на себе крепостного права, северные крестьяне не похожи вообще на русского крестьянина средних губерний» [417] Соколов Б. Ф . Указ. соч. С. 22.
. Айронсайд подчеркивал: «Северные крестьяне, несомненно, более независимы, чем сельские жители в других областях России, и образовательный уровень у них выше» [418] Айронсайд Э. Указ. соч. С. 267–268.
. Но этими чертами отличались все северные крестьяне, а не только бойцы партизанских отрядов. Тогда почему «потомки новгородской вольности», испытав на себе чудовищный террор большевистских отрядов, имея идеальную систему снабжения, денежную и продовольственную помощь своим семьям, только и делали, что поднимали восстания, убивали русских и иностранных офицеров и батальонами и полками перебегали к красным?
3. Национальное ополчение Северной области
Одной из мер, предпринятых властями Северной области для укрепления боеспособности края, для сплочения населения вокруг правительства, было создание Национального ополчения. Примером для этого послужил финский шуцкор – отряды самообороны, составившие финскую армию и разгромившие в гражданской войне 1918 г. финскую Красную гвардию. Миллер писал: «Наглядным примером, чего можно достигнуть в короткий срок, является Финляндия, население которой за один год организовало Национальное ополчение такой внушительной силы, что никакие внутренние смуты, никакие проявления большевизма там теперь немыслимы» [419] Таскаев М. В . Указ. соч. С. 90.
. Финский пример стоял перед глазами, и идея создать что-нибудь подобное носилась в воздухе. Инициатором создания ополчения и главным его пропагандистом стал архангельский житель, герой Первой мировой войны, безногий полковник К. Я. Витукевич. Национальное ополчение было создано первоначально в Архангельске в марте – апреле 1919 г., в него могли вступать все жители Архангельска, способные носить оружие, начиная с 17-летнего возраста, не являющиеся военнообязанными. Но для этого необходимо было представить «письменное поручительство не менее двух лиц из состава ополчения или командного состава под ответственностью поручителей» [420] Там же. С. 91.
.
Основой ополчения послужили квартальные комитеты, объединявшие домовладельцев Архангельска, которые уже в течение года организовывали охрану собственных домов и высылали патрули в город, чтобы покончить с грабежами. Их успешный опыт, наряду с финским, привел к идее создания ополчения. Первоначально квартальные комитеты осуществляли контроль за записью в ополчение: «Комитеты эти представляли самые надежные политически элементы городского населения. Вручив этим комитетам контроль и право зачисления в ополчение – можно было ручаться за поголовную благонадежность каждого отдельного члена новой организации» [421] Марушевский В. В . Указ. соч. Т. 2. С. 39.
. Архангельская дружина делилась на роты (100–200 человек), роты на взводы (до 50 человек). Роты и взводы формировались по территориальному принципу из жителей одной улицы, квартала или района. По свидетельству Марушевского: «Исключение составила лишь самая молодая рота, набранная из воспитанников учебных заведений 17–18-летнего возраста, поступивших, конечно, охотниками» [422] Там же.
. Архангельское ополчение в основном состояло из представителей мелкой, средней и крупной буржуазии, чиновников, сотрудников различных ведомств. Добровольский свидетельствовал: «…начиная с прокурора суда г. Д. все чины гражданского судебного ведомства состояли в ополчении и в качестве таковых с винтовками в руках выполнили свой долг до конца, неся караульную службу во время посадки на суда и оставления нами Северной области» [423] Добровольский С. Ц . Указ. соч. С. 103.
.
Интервал:
Закладка: