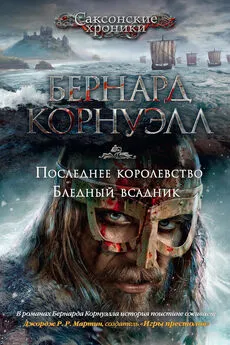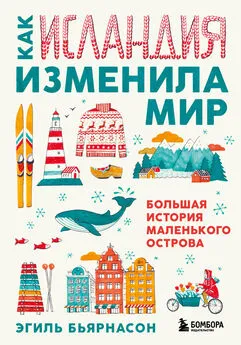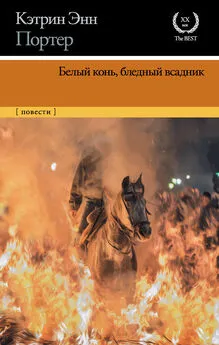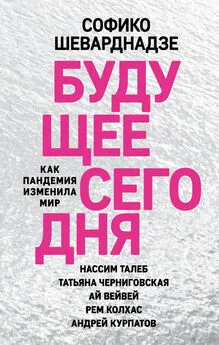Лаура Спинни - Бледный всадник: как «испанка» изменила мир
- Название:Бледный всадник: как «испанка» изменила мир
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:АСТ
- Год:2021
- Город:Москва
- ISBN:978-5-17-133984-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Лаура Спинни - Бледный всадник: как «испанка» изменила мир краткое содержание
Бледный всадник: как «испанка» изменила мир - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Так что как минимум одна очень и очень мощная и влиятельная социальная группа была кровно заинтересована в замалчивании испанского гриппа. Немецкий философ и культуролог Беньямин Вальтер даже настаивал на том, что публичное молчание о подобных негативных явлениях – жизненно важное условие прогресса, поскольку позволяет идти вперед без оглядки на руины прошлого. Да и, вероятно, по всему миру было немало единомышленников аляскинских юпиков с берегов Бристольского залива, давших наллунгуак – зарок хранить молчание – в отношении всего, что хоть как-то связано с пандемией, подорвавшее устои их древней культуры. Если кто и рассказывал предания об испанском гриппе, то в основном те, кто легче всех отделался, – белые и богатые. Те же, кому пришлось тяжелее всех – жители гетто и трущоб, – и по сей день свои истории так толком и не поведали, потому что за редким исключением им никто и слова-то не давал. Кое-кто, к примеру малые народности, сгинувшие вместе с языками, на которых говорили, уже никогда и никому ничего не расскажут. Но, вероятно, кое-кто из бесправных жертв все-таки нашел способ высказаться, пусть и невербально, а через забастовки, социальные протесты и революции.
Есть и другая причина, по которой общечеловеческая память о пандемии до сих пор не вызрела. В 2015 году психологи Генри Редигер и Магдалена Абель из университета им. Вашингтона в Сент-Луисе подвели первые итоги под все еще скудными результатами исследований коллективной памяти и обратили внимание на то, что «сюжетное построение повествования весьма упрощено и включает лишь малое число рельефно выделенных событий, точечно указывающих на начало, перелом и конец» пандемии [489] H. L. Roediger and M. Abel, ‘Collective memory: a new arena of cognitive study’, Trends in Cognitive Sciences, 2015; 19(7):359–61.
. Такой подход, добавляют они, бывает полезен в героических легендах или мифических преданиях. Войны легко укладываются в такую сюжетную канву: «объявление войны – беспримерное мужество – долгожданный мир». А вот пандемия гриппа не имеет ни четкого начала, ни явного конца, ни общепризнанных героев. Во Франции Министерство обороны пыталось по традиции устроить награждение медалями «За борьбу с эпидемией» тысяч особо отличившихся на этой ниве гражданских и военных, но из этой затеи ничего толком не вышло, и даже списки представленных к этой награде не сохранились. На веб-сайте, посвященном французским военным реликвиям, сказано: «Занятно, что не сохранилось сведений даже о ее месте в иерархии наград времен той войны» [490] http://numismatics.free.fr/FIM/FIM%20-%20Medaille%20des%20EpidemiesV3.0.pdf.
.
И структуру, и язык повествования нужно менять. Уязвленные и пристыженные своим провалом ученые отыгрывались, навязывая нам свой вокабулярий и перенасыщая рассказы о гриппе своими мудреными понятиями – «иммунная память», «генетическая предрасположенность», «синдром поствирусной усталости» и т. д. и т. п. Будучи втиснутыми в рамки этого новояза – отнюдь не поэтичного и не самого благозвучного, зато позволяющего с равным успехом формулировать прогнозы на будущее и гипотезы о случившемся столетие назад и сопоставлять их с историческими отчетами, – разрозненные события стали складываться во внешне связные картины, а ранее казавшиеся самоочевидными причинно-следственные связи и даже аксиомы, напротив, атрофироваться и отмирать (нет, гнев божий тут абсолютно ни при чем; да, грипп стал как минимум одной из причин последующей волны всеобщей меланхолии). И пандемия со временем предстала в радикально новом обличье – такой, какой мы ее знаем сегодня.
На формирование подобного связного повествования уходит немало времени – почти столетие, если судить по начавшему пробуждаться лишь лет двадцать назад интересу к испанскому гриппу, – а до тех пор, пока история сюжетно не сложилась, возникают самые нелепые путаницы. В Австралии, к примеру, испанский грипп оказался прочно увязан в мозгах людей со вспышкой бубонной чумы 1900 года, и в народе считалось, что именно чума так и продолжала косить европейцев и американцев вплоть до 1920 года, тем более что местные газеты испанский грипп иначе чем «мором» не называли, а «мор» в обыденном понимании был синонимом «чумы». А вот японцам вскоре сделалось вовсе не до осмысления испанского гриппа, поскольку у них в 1923 году разразилось Великое землетрясение Канто, стершее с лица земли Токио и другие города восточного побережья острова Хонсю, включая злосчастную Йокогаму. Также в сознании многих людей по всему миру прочно укоренилось представление об испанском гриппе как о результате применения бактериологического оружия, да и в целом война и разразившаяся на ее излете пандемия оказались неразрывно связанными в восприятии буквально по всем параметрам. Капитанов и лейтенантов британской армии – представителей того самого «потерянного поколения» в первоначальном и самом прямом смысле, которое придавала этому понятию Вера Бриттен, – погибло около 35 000 [491] D. Gill, ‘No compromise with truth: Vera Brittain in 1917’, War and Literature, Yearbook V, 1999:67–93.
. Испанский грипп убил вшестеро больше британцев, и более половины из них составляли молодые и здоровые на момент заболевания мужчины и женщины, у которых эта болезнь украла жизнь, которая, как им казалось, только начинается. Так что и они заслуживают звания «потерянного поколения» не меньше погибших на фронте, хотя на этот скорбный титул могут претендовать и сироты гриппа, и нерожденные дети, умершие вместе с матерями, и вообще все жертвы страшного 1918 года, – пусть и по разным причинам, но все, как ни поверни, по праву.
Смерть Эдмона Ростана иллюстрирует степень слияния образов войны и гриппа в сознании людей как нельзя лучше. 10 ноября 1918 года прославленный драматург планировал выехать со своей виллы во французской Басконии в Париж и присоединиться ко всеобщему ликованию по случаю окончания войны. В 17:00 за Ростаном и его гражданской женой, актрисой Мари Марке, прибыло загодя заказанное авто, чтобы доставить их на ближайшую железнодорожную станцию прямо к поезду. Пока прислуга подносила, а шофер укладывал багаж в машину, пара сидела у камина и молча прощалась с догорающими углями и родным очагом. Но как-то тоскливо и даже угрюмо смотрелись эти последние всполохи: в Париже разгоралась неведомая страшная болезнь, а на мировой сцене – пожар и вовсе непонятный, а потому пугающий… Тут они услышали, как снаружи в окно бьется птица. Ростан встал, распахнул створку, и внутрь впорхнул белый голубь, сел на пол, попытался было проковылять к камину, но тут же свалился на бок. Он залетную птицу подобрал, взял в ладони, но голубь тут же испустил дух, и крылья его безвольно опали. «Умер!» – воскликнул он. Мари в шоке запричитала что-то про дурной знак… А через три недели прославленный создатель «Сирано де Бержерака» скончался в Париже от испанского гриппа [492] M. Forrier, Edmond Rostand dans la Grande Guerre 1914–1918 (Orthez, France: Editions Gascogne, 2014), p. 414.
.
Интервал:
Закладка:
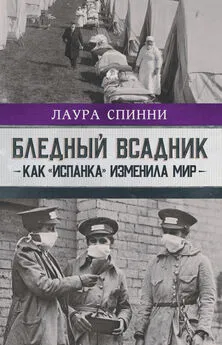
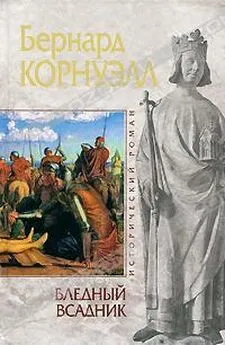
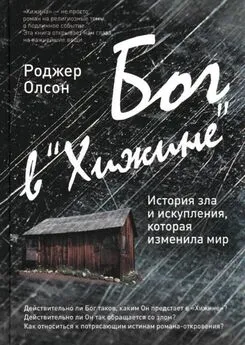
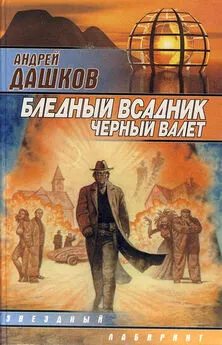

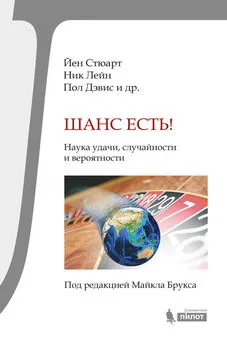
![Бернард Корнуэлл - Бледный всадник [litres]](/books/1084197/bernard-kornuell-blednyj-vsadnik-litres.webp)