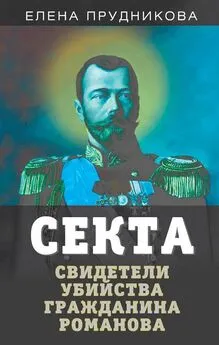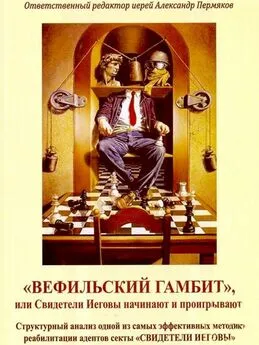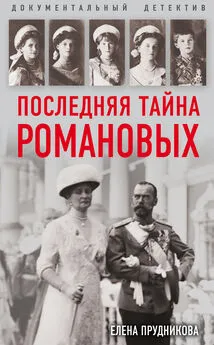Елена Прудникова - Секта. Свидетели убийства гражданина Романова
- Название:Секта. Свидетели убийства гражданина Романова
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Родина
- Год:2021
- Город:М.
- ISBN:978-5-00180-083-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Прудникова - Секта. Свидетели убийства гражданина Романова краткое содержание
Секта. Свидетели убийства гражданина Романова - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Обер-прокуроры бывали… разные. Первым стал Иван Болтин, командир Каргопольского драгунского полка (что косвенно свидетельствует о значении, которое царь придавал церковным делам). Должность свою Болтин исполнял честно — насколько ее вообще может исполнять драгунский офицер. Дальше в Синод тоже назначались люди большей частью военные, и дела шли ни шатко ни валко — пока в 1762 году не пришла к власти урожденная немка Екатерина II. И снова начались протестантские заморочки. В 1764 году Екатерина провела секуляризацию монастырских земель — впрочем, это дела большей частью экономические. На дворе стоял «золотой век», нужны были деньги на войны и на версали, так почему бы немножко и не поэкспроприировать?
Но обер-прокурор Иван Мелиссино предложил распространить реформу и на каноническое право, по сути, устроить в Православной Церкви реформацию: уничтожить посты, разрешить четвертый брак, облегчить разводы, упростить некоторые обряды. К счастью, Екатерина понимала возможные последствия. За сто лет до того куда более мелкие изменения привели к церковному расколу, а если провести в жизнь идеи Мелиссино, то грохнуть могло так, что раскол показался бы детскими играми. Так что реформа не прошла — но церковный начальничек-то каков!
Следующим был армейский бригадир Петр Чебышев, который вообще открыто заявлял о своем атеизме. Тем не менее на обер-прокурорском посту он продержался шесть лет, после чего обнаружилась недостача более чем в 10 тысяч рублей. Деньги он возместил, но должность пришлось покинуть.
Или, например, назначенный в 1791 году Алексей Мусин-Пушкин, страстный собиратель древностей, ставший в 1795 году еще и президентом Академии художеств. Что у него общего с церковными делами? А назначила его Екатерина как раз «с прицелом» на хобби, повелев собирать по монастырям и храмам древние рукописи и старопечатные книги. Кое-что, кстати, осело и в личном собрании коллекционера.
Потом на этой должности отметились заводчик фаянса и фарфора князь Хованский, поэт-графоман Дмитрий Хвостов (тот самый, коего прославил своими эпиграммами Пушкин). Совершенно чудная история произошла с эпикурейцем, волтерьянцем и гомосексуалистом князем Александром Голицыным. Став обер-прокурором Синода, он внезапно уверовал, сделавшись истовым православным. Будучи одновременно еще и министром народного просвещения, взял курс на клерикализацию образования. Впрочем, как пишет великий князь Николай Михайлович в «Русских портретах XVIII и XIX столетий», православие у него было весьма любопытного толка.
«Этого „младенца“ в деле веры постоянно морочили разные ханжи и изуверы; он искал „излияния Св. Духа“ и откровений, вечно гонялся за пророками и пророчицами, за знамениями и чудесами: то „слушал пророческое слово“ у хлыстовки Татариновой, то жаждал возложения руки нового Златоуста — Фотия, то исцелял бесноватых, то удостаивался в мистическом экстазе испытать подобие страданий Спасителя от игл тернового листа».
Вот и вопрос: кто хуже на посту обер-прокурора Святейшего Синода — атеист или такой вот персонаж? А он пробыл в Синоде 14 лет!
А вот полковник Николай Протасов был человеком серьезным. Заботился о программах и быте духовных училищ, что хорошо. Зато он преобразовал Синод по образцу департамента с собой во главе, сделав его ведомством церковного исповедания.
Были среди обер-прокуроров приличные православные люди? Да были, конечно. Но сам принцип…
Единственным по-настоящему серьезным деятелем на этом посту являлся Константин Победоносцев. Именно при нем должность обер-прокурора стала министерской сама по себе. (До того главы Синода входили в Комитет министров по ведомству народного просвещения — то есть Церковь даже отдельного министерства не удостоилась, в православной-то стране…). Он проводил крупные реформы. Вроде бы был противником самостоятельности Церкви, но именно он начал подготовку к Поместному собору, который не проводился двести лет. Собор состоялся в 1917 году и завершился выбором Патриарха.
«Симфония властей» в России сложилась весьма своеобразная. Церковь была выстроена во фрунт, послушна воле монарха и добросовестно обслуживала его идеологически. Отсюда и цитаты, вынесенные в начало главы: а попробовал бы кто-нибудь сказать что-либо иное!
Конечно, власть использовала не только кнут, и ее пряники были сдобными и сладкими. Строились роскошные соборы и приходские церкви, шло неплохое финансирование, прихожан в храмы загоняли, используя административный ресурс. Жизнь раба в богатом доме может быть очень неплоха… но это жизнь раба. А рабство развращает всех.
Результат? О нем (применительно к византийской Церкви, но имея в виду и русскую) сказал уже в ХХ веке видный деятель эмигрантской церкви протоиерей Александр Шмеман:
«Трагедия Византийской Церкви в том как раз и состоит, что она стала только Византийской Церковью, слила себя с Империей не столько административно, сколько психологически. Для нее самой Империя стала абсолютной и высшей ценностью, бесспорной, неприкосновенной, самоочевидной. Византийские иерархи (как позднее и русские) просто неспособны уже выйти из этих категорий священного царства, оценить его из животворящей свободы Евангелия. Все стало священно и этой священностью все оправдано. На грех и зло надо закрыть глаза — это ведь от „человеческой слабости“. Но остается тяжелая парча сакральных символов, превращающая всю жизнь в священнодействие, убаюкивающая, золотящая саму совесть… Максимализм теории трагическим образом приводит к минимализму нравственности. На смертном одре все грехи императора покроет черная монашеская мантия. Протест совести найдет свое утоление в ритуальных словах покаяния, в литургическом исповедании нечистоты, в поклонах и метаниях, всё — даже раскаяние, даже обличение имеет свой „чин“, — и под этим златотканым покровом христианского мира, застывшего в каком-то неподвижном церемониале, уже не остается места простому, голому, неподкупно-трезвому суду простейшей в мире книги… „Где сокровище ваше, там и сердце ваше“» [46] Шмеман А. Исторический путь Православия. С. 267–268.
.
Русские архиереи образца 1917 года изъяснялись куда проще.
Из статьи начальника Российской духовной миссии в Пекине епископа Переславского Иннокентия (Фигуровского) «Печальное недоразумение». 8 мая 1917 г.
«Так как Российская Церковь по неисповедимым судьбам Божиим 200 лет находилась в пленении у русских царей и епископы 200 лет не могли собраться на собор, то теперь, когда эта беззаконная власть Самим Богом, а вовсе не народом, низвергнута, епископы обязаны незамедлительно собраться на собор…» [47] Бабкин М. Указ. соч. С. 122.
Интервал:
Закладка: