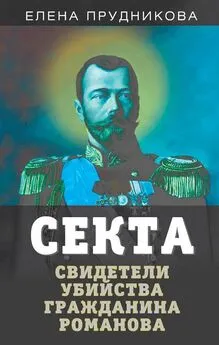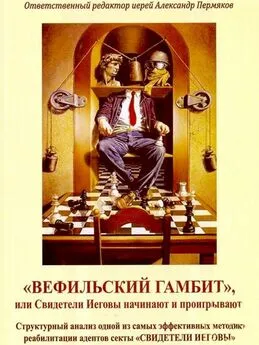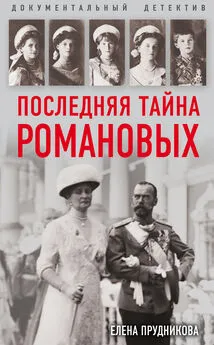Елена Прудникова - Секта. Свидетели убийства гражданина Романова
- Название:Секта. Свидетели убийства гражданина Романова
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Родина
- Год:2021
- Город:М.
- ISBN:978-5-00180-083-5
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Елена Прудникова - Секта. Свидетели убийства гражданина Романова краткое содержание
Секта. Свидетели убийства гражданина Романова - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Понимал ли Николай свою малую способность к государственному управлению? Если не неспособность, то хотя бы неготовность понимал. Его двоюродный дядя, великий князь Александр Михайлович вспоминал:
«Каждый в толпе присутствовавших при кончине Aлeксандра III родственников, врачей, придворных и прислуги, собравшихся вокруг его бездыханного тела, сознавал, что наша страна потеряла в лице Государя ту опору, которая препятствовала России свалиться в пропасть. Никто не понимал этого лучше самого Никки. В эту минуту в первый и в последний раз в моей жизни я увидел слезы на его голубых глазах. Он взял меня под руку и повел вниз в свою комнату. Мы обнялись и плакали вместе. Он не мог собраться с мыслями. Он сознавал, что он сделался Императором, и это страшное бремя власти давило его.
— Сандро, что я буду делать! — патетически воскликнул он. — Что будет теперь с Россиeй? Я еще не подготовлен быть Царем! Я не могу управлять Империей. Я даже не знаю, как разговаривать с министрами…
Я старался успокоить его и перечислял имена людей, на которых Николай II мог положиться, хотя и сознавал в глубине души, что его отчаяние имело полное основание и что все мы стояли пред неизбежной катастрофой».
Отец Николая император Александр III отметил в 1892 году, когда наследнику было уже 24 года: «Он совсем мальчик, у него совсем детские суждения» [58] Радциг Е. Николай II в воспоминаниях приближенных. http://scepsis.net/library/id_2077.html
. В чем это выражалось, почему «детские»? Не сказано. А что у детей есть такого, чего нет у взрослых? У них своя реальность…
Итак, неспособность свою Николай осознавал, государственными делами тяготился, однако покорно нес свой крест. Да и выбора он не имел — кому передать корону? В 1825 году у нежелающего царствовать Константина был сильный и толковый младший брат. У Николая наследником стал чахоточный Георгий. Впрочем, это все рассуждения «в пользу бедных» — православному отказываться от креста нельзя, не положено. Вот он и правил, как умел, — был неспособен, но очень старался.
Бывший товарищ министра внутренних дел Владимир Гурко уже в эмиграции написал очерк «Царь и царица». Он сообщает очень любопытные вещи, которые многое объясняют:
«В отдельных вопросах Николай II разбирался быстро и правильно, но взаимная связь между различными отраслями управления, между отдельными принимаемыми им решениями, от него ускользала. Вообще синтез по природе был ему не доступен. Как кем-то уже было замечено, Николай II был миниатюрист. Отдельные мелкие черты и факты он усваивал быстро и верно, но широкие образы и общая картина оставались как бы вне поля его зрения.
Обладал Николай II исключительной памятью. Благодаря этой памяти, его осведомленность в разнообразных вопросах была изумительная. Но пользы из своей осведомленности он не извлекал. Накапливаемые из года в год разнообразнейшие сведения оставались именно только сведениями и совершенно не претворялись в жизнь, ибо координировать их и сделать из них какие-либо конкретные выводы Николай II был не в состоянии. Все, почерпнутое им из представляемых ему устных и письменных докладов, таким образом, оставалось мертвым грузом, использовать который он, по-видимому, и не пытался» [59] Гурко В. Царь и царица. Париж, 1927.
.
Тут, правда, сразу же появляются непонятки. Не бывает человека, у которого в голове совсем не существовало бы картины окружающего мира. Судя по тому, что дальше пишет Гурко, такая картина как раз была — но не имела ничего общего с российской реальностью. А откуда бы взяться общему? Нелюбопытный интроверт, выросший за дворцовыми стенами, живущий в сословном обществе, в кругу общения которого ближе всего к народу стоят гвардейские офицеры. Мы не то что не понимаем — мы даже не способны сейчас понять, что такое сословное общество. Петербургская «элита» о жизни не то что крестьянства (составлявшего 85 % населения России) — даже городских низов не имела ни малейшего представления. Попадаются иной раз на дороге какие-то подозрительные оборванцы… «Для нас, „людей“, был черный ход, а ход парадный — для господ». Так они и ходили по разным лестницам. Что же касается царя — то он даже в окно кареты видел лишь специально отобранных службой безопасности, умытых и проинструктированных представителей народа.
В эпохи застоя это не имеет значения: мало ли что снится вознице, телега которого катится по наезженной колее? А в годы переломные, когда надо быстро реагировать на меняющуюся обстановку, такое качество правителя становится роковым. Если, конечно, не возникнет у руля «могучий ум при слабом государе». Правда, с «могучими умами» в России того времени была напряженка, но дельные управленцы имелись.
Проблема заключалась в том, что Николай пытался не только управлять государством, но самодержавно править . А взгляды на самодержавие у него были прямые, как вертел, на который он и насаживал сложный механизм управления. Одним из следствий стало то, что инициативу, проявленную подчиненными, он рассматривал как покушение на свою власть. Это, в общем-то, общеизвестно, однако у Гурко есть любопытная версия причин такого подхода:
«В проявлениях инициативы со стороны своих министров Николай II усматривал покушение узурпировать часть его собственной царской власти. Происходило это не только от присущего ему обостренного самолюбия, но еще и потому, что у него отсутствовало понимание различия между правлением и распоряжением, вернее говоря, в его представлении правление государством сводилось к распоряжениям по отдельным конкретным случаям. Между тем, фактически всероссийский император силою вещей мог только править, т. е. принимать решения общего характера и широкого значения, распорядительная же часть поневоле всецело сосредоточивалась в руках разнообразных начальников отдельных частей сложного государственного механизма и всего ярче выявлялась в лице отдельных министров.
При отмеченном отсутствии в сознании Государя точного разграничения понятий правления и распоряжения на практике получалось то, что чем деятельнее был данный министр, чем большую он проявлял активность и энергию, тем сильнее в сознании Царя укреплялась эта мысль о посягательстве на его, царскую, власть и тем скорее такой министр утрачивал царское доверие. Именно эту участь испытали два наиболее талантливых сотрудника Николая II — Витте и Столыпин».
То есть Николай хотел держать все вожжи в своих руках. Такое и Сталину было не под силу, а тем более не удавалось посредственному и тяготящемуся государственными делами императору. Но ведь он обещал отцу сохранить российское самодержавие! Так он понимал свой долг и изо всех сил старался его выполнять. В этих условиях честное служение державе на министерском посту было деянием сродни подвигу.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: