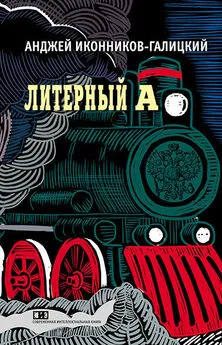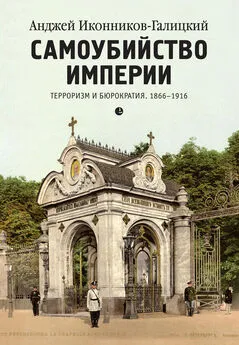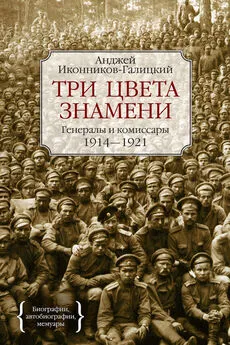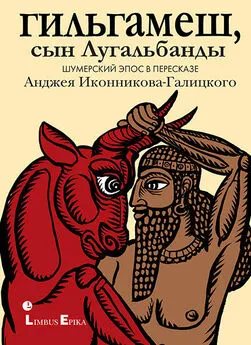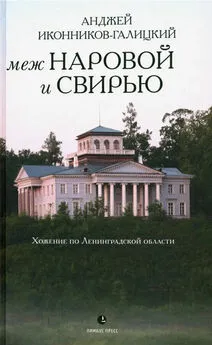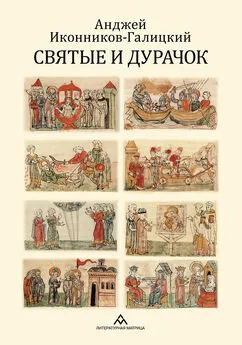Анджей Иконников-Галицкий - Литерный А. Спектакль в императорском поезде
- Название:Литерный А. Спектакль в императорском поезде
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Современная интеллектуальная книга
- Год:2020
- Город:Санкт-Петербург
- ISBN:978-5-904744-35-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Анджей Иконников-Галицкий - Литерный А. Спектакль в императорском поезде краткое содержание
Литерный А. Спектакль в императорском поезде - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
А где-то выше и где-то
рукой подать — так близки —
постукивают по паркету
царские каблуки.
Шаги отдаются говором
под сводами галерей,
по залам и коридорам,
в оглохших ушах дверей.
Библиотека, лестница,
коридор, поворот.
Секундами перелистывается
считалка наоборот.
Вдох-выдох — шесть, пять, четыре.
Зуб на зуб — три, два, один.
Тени и часовые
вытягиваются позади.
Царь спешит, задыхается.
(Сердце зверьком в руке.)
Перчаткой, томясь, касается
крестика на сюртуке…
В столовой звенит посуда,
лакеями ставима бережно.
Шнур тлеет.
Ещё секунда.
Три четверти.
Четверть.
Бездна.
Убийство в Мариинской больнице
Фёдор Кокошкин, член Центрального комитета партии конституционалистов-демократов (кадетов) и автор закона о выборах в Учредительное собрание, был вместе с несколькими другими кадетскими лидерами арестован красногвардейцами на дому у графини Паниной 27 ноября 1917 года. Это произошло накануне назначенного, но не состоявшегося открытия Всероссийского Учредительного собрания. Ровно на сороковой день после ареста, 5 января 1918 года, больной Кокошкин и его товарищ по партии, бывший министр Временного правительства Андрей Шингарёв были переведены из сырой Петропавловки в Мариинскую больницу. Вечером того же дня состоялось отложенное после ареста кадетов открытие Учредительного собрания. В ночь с 5-го на 6-е Шингарёв и Кокошкин были убиты в больнице матросами и красногвардейцами, а Учредительное собрание разогнано.
I
Над омрачённым Петроградом
глухая ночь сочилась ядом,
вздымая дымных труб анчар,
и утыкала в небо пальцы —
как будто в амфору гончар.
И тучи, грузные скитальцы,
в бинтах, устав от непогод,
здесь свой замедлили поход,
и, развалясь, как на привале,
над Петроградом ночевали.
Ещё не кончилась война.
С обрывком «…власть…» как с бантом
модным
раскачивался над Обводным
простреленный кумач. Со дна
всплывали тёмные шинели
домов. Шёл холод по реке.
Средь мёртвой тьмы в особняке
графини Паниной желтели,
как в теремочке, окна: три
весёлых капли. В них, внутри
трёхгорлой колбы, сиротели
три человечка (тьма с краёв),
гомункулы, чудной наукой
взращённые: князь Долгорукой,
Андрей Иваныч Шингарёв
да Фёдор Фёдорыч Кокошкин
в своём всегдашнем сюртуке
(в отглаженном воротничке
головка — как яйцо в лукошке).
Усы, пенсне. Блеск стёкол весел.
В руке листок двоится. Вслух
читает первым двум. Тех двух
почти не видно из-за кресел.
Земные выступили воды
на бой с небесными. Открыть.
Он им читал проект свободы.
Он завтра будет говорить
там, в Учредительном. Пусть Ленин
поймёт: бунт жуток. Постепенен
путь конституции. Они
не знают, что творят…
В те дни
над обречённым Петроградом,
над льдистым морем, трупным смрадом
скитальцы-тучи жгли костры,
метались клочья транспарантов,
и статуи глядели с крыш
с растерянностью эмигрантов.
Да, завтра будет бой. Да будет!
Канун. Судьба. Тринадцать лет
мы ждали. И настало. Свет
мелькнул — и гаснет. Нас рассудит
последний суд. В окне черно.
Те — победили. Ясно. Но
ведь с нами правда. Червь народа
ещё не пробуждён. Во сне
шевелится он страшно — не
прикован, но и не свобода.
Вот вышли: море, цепь, скала —
но ни орла, ни Прометея.
Пустое. Бездна. Провиденье.
Полз дым по мареву стекла
сигарно-трубочным надсадом
и расплывался над сукном.
Двоился мир.
А за окном
над помрачённым Петроградом,
над зимним утром, Летним садом,
над новым окаянным днём
неслись невидимые воды,
и бились прутья непогоды
о шпили башен всех времен.
И, гол, на площади широкой
вздымался камень одинокий.
Он плыл один средь мёртвых вод
без змея и коня. Исход
свершался. Там, в ночи беззвёздной,
над сводом мира, в вышине
скакал багровый всадник бледный
на неподвижно-злом коне.
II
Тогда по площади Сенатской
прошли походкою солдатской.
Подковки по камням. Раз! Раз!
Двенадцать кожаных бушлатов.
Двенадцать кованых прикладов.
Двадцать четыре ямы глаз.
Вприпрыжку спереди и справа —
тринадцатый: троцкист Гордон,
студент, еврейский мальчик. Он,
как жребий, вытащен причудой
судьбы, из пустоты на свет.
Он их ведёт. Ему Иудой
сегодня быть. Прошло пять лет
с тех пор, как он пришёл послушать
Кокошкина: тот им читал
курс права. Ученик мечтал
весь мир насилия разрушить,
оковы зла разбить. Теперь
с бумагой от Петросовета
идёт учителя-кадета
арестовать. Вот эта дверь.
— Семь тридцать. Сверим.
(Тьма такая,
и спит предутренняя дрожь.)
Клац-клац по камушкам.
— Войдёшь
в парадное, не зажигая,
И что есть силы в двери. Ты —
направо, ты и ты — налево.
Ну, с Богом. Чёрт. —
Из пустоты
на свет — как в зал из киноленты.
Чу, тишина. И — бум-бум-бум
в железо.
— Кто?
И выдох:
— Боже!
— Откройте именем… — Слов больше
не разобрать. Брань, топот, шум.
И вдруг затихло. Встали. Охнул
паркет. Тень. Тяжесть на плечах
как бронзовая. И печать
далёкого рассвета в окнах.
III
Печаль больничная, сиделка.
Дверь. В коридоре до утра
тень, милосердная сестра
над лампой наклонясь, светлела.
Фитиль-двойник за ней следил.
Под стенкой часовой ходил,
притоптывая от мороза.
Целебный луч до дна, до мозга
входил в глаза.
И думал он:
«Как странно этот мир сплетён!
Вот ровно сорок дней, как замер
шум за окном. Конвой. Со дна
мы всплыли в желть тюремных камер.
И вдруг — больница, белизна…
Какая ясная луна
сквозь эти тучи проступила!
И вся-то жизнь светла, ясна,
как лучик, падающий на
вот эти белые простынки.
Бесшумный в колбе часовой,
бесшумные несутся воды.
Всё, всё, что нужно мне, — свободы
сияние — передо мной
в стекле двоящемся. Вон куцый
щенок прижался у стены.
И больше ничего: войны,
знамён, декретов, революций.
Смешно! Какая злая чушь
меня бессилием томила!
Но я освободился! Мимо!
Я жив! Я вечности учусь.
………………………..
Я знаю, жду: меня убьют.
Сегодня, завтра… Скоро. Сколько
осталось ждать ещё? Но скоро.
Сегодня, может быть. Минут
в ладони горстка. Да, сегодня
меня убьют. Меня! За что?
За то, что жив. Дышу. За то,
что так люблю себя. Погоня
бессмысленная. Плакал, мал,
и мама гладила. За то, что
жил, сам себя не понимал —
я не имею права. Точка».
Разделся, сел. Придвинул стул.
Подумал. Снял пенсне. — Во имя
Отца и Сына… Сохрани мя… —
И не договорил. Заснул.
IV
Он спал. Луна ещё сквозила.
На тонком личике легло
сиянье от окна. Легко
дышал. И ветка егозила
меж рам. Забавно так во сне
подёргивался усик: жалко
и всё ж воинственно. Дрожало
на тумбочке стекло пенсне.
Интервал:
Закладка: