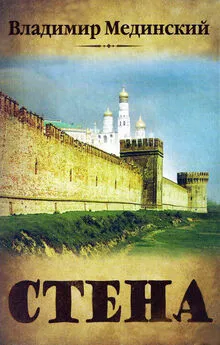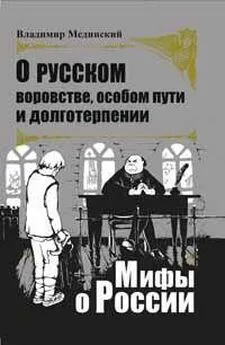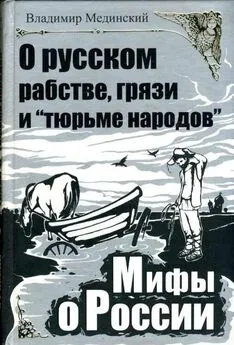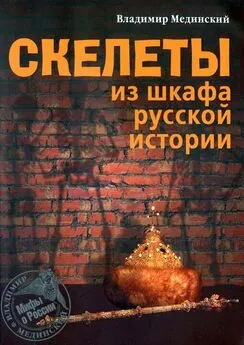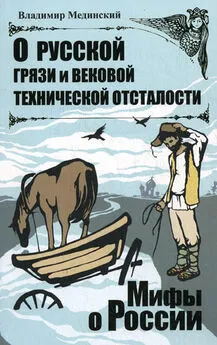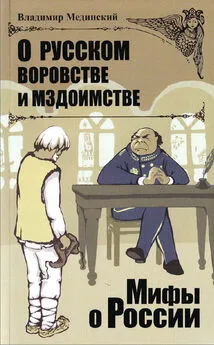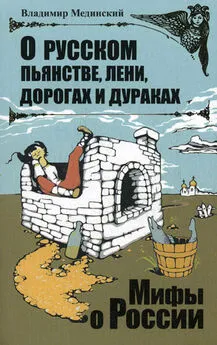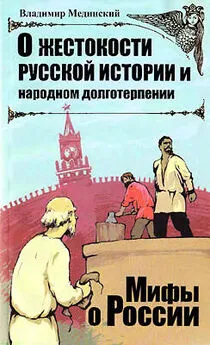Владимир Мединский - Стена
- Название:Стена
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:ОЛМА Медиа Групп
- Год:2012
- Город:Москва
- ISBN:978–5-373–04522–3
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Владимир Мединский - Стена краткое содержание
Мединский возрождает жанр, который у нас почти не был раскручен… «Три мушкетера» — это Франция начала XVII века. Весь мир знает эту легенду. Мединский взял ту же самую эпоху, только у нас, в России (это как раз Смута) и написал приключенческий роман.
Впрочем, история у Мединского — нечто иное, чем у Дюма. Если для великого французского романиста она была гвоздем, на который он вешал свою картинку, то для Мединского наоборот: вся картина — это история, а выдумки — от силы на гвоздик и рамку, ибо наша русская история дает такие фантастические сюжеты, что и выдумывать ничего не надо. Роман «Стена» — это русский Умберто Эко и отчасти наш православный Дэн Браун.
На обложке — стена сохранившейся крепости, вокруг которой и происходит все действие… / ОЛМА Медиа Групп.
Стена - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Самозванец въехал в столицу.
Улицы запрудил взбудораженный народ, все хотели видеть «государя Дмитрия Иоанновича», многие шумно выражали свое ликование, иные, которых было куда меньше, подавленно молчали и прятали глаза. Объявился какой-то юродивый, который кричал, что за подлое убийство невинных царя Федора и его матери город будет проклят и поглотит его геенна огненная. Люди шарахались от безумца, но тронуть его не смели. Казалось, что все москвичи были словно пьяны, все кричали, ликовали, плясали, но никто не слушал друг друга, словно не понимали обращенных к ним слов…
Какое-то время Посольский приказ почти не работал, и Григорий вновь поехал к отцу.
В Сущеве, вотчине отца, Григорий сблизился с отроком Александром. А правильнее будет сказать — с Санькой, Сашкой, поскольку был тот простым дворовым мальчишкой, сиротой, неизвестного роду и племени. Страшной зимой третьего года подобрал его Дмитрий Станиславович где-то на Смоленской дороге. Чем Александр — из прошлой жизни малыш помнил только свое имя — пришелся по душе Колдыреву-старшему? Не то бездонной синевой любопытных и бесхитростных глаз, не то недетскими смекалистостью и соображением… не то просто-напросто мечтал старик о внуках, кои у его товарищей давным-давно народились. Приблизил он к себе мальчонку, учил сорванца уму-разуму и внимания не обращал на осудительные взгляды соседов: мол, как же это так, позволить дворовому несмышленышу разгуливать по барскому дому, трогать вещи барина, [16] Слова «барин» в начале XVII века еще не было. Крестьяне называли дворянина, у которого арендовали землю, например, «государь-батюшка», или уважительно «боярин» (от чего потом и образовалось «барин»). Но в нашем сегодняшнем языке это именно то слово, которое обозначает хозяина имения.
да еще и разговаривать с ним как с родным?
В прежние нечастые приезды Григория Санька был еще слишком мал, но теперь он тоже нашел мальчика славным и даже в шутку предложил тому подружиться, хотя какая уж дружба — одному десяти нет, а другому за двадцать? Но Саня в ответ поглядел на московского гостя синими, как Днепр поутру, глазами и сказал:
— Коли не шутишь, так я тебе до гроба другом буду!
И они, Григорий и Санька, первый шутливо, второй очень серьезно, пожали друг другу руки.
Гришу вскоре спешно вызвали назад, в Приказ: увидав на троне своего человека, в Москву толпами хлынули поляки и многие другие иноземцы. Работы стало невпроворот.
А спустя без малого год «царь Дмитрий» осточертел московским боярам да дворянству и своей преданностью ляхам, коим доставались лучшие должности и поместья в обход русских служилых, и своей необъяснимой нелюбовью к русской бане и еще более странной одержимостью к «польской ведьме». Так прозвали его невесту, а потом и супругу — красавицу Марину, отцу коей, магнату Мнишеку, новый царь даже пообещал передать Смоленск и окрестности.
И еще две странности погубили Дмитрия. Не могли москвичи понять его пристрастия к телятине, которая на Руси в те времена почему-то почиталась за нечистую пищу. И совсем уж ненормальным казалось то, что царь после обеда не спит! Послеобеденный сон был для русских не блажью, не данью их мифической лени, а простой необходимостью. Вставали на работу рано, до света, а ложились только после поздних церковных служб. И если после обеда человек, будь он хоть царь, не вздремнул, значит, или на службу в церковь не ходил, или на работу с первыми лучами — не вставал! Что ж это за царь выходит? Ненастоящий!
Не юн уж и даже не молод был князь Василий Шуйский, а был он в полной мужской силе, когда под колокольный набат въезжал через Спасские ворота в Кремль с крестом в одной руке и саблей — в другой, чтобы свергнуть самозванца. В серебряной рукояти его сабли кроваво горел крупный рубин. А за предводителем переворота бежали стрельцы и даж некоторые бояре — кто посмелее. Да, доживавший свои последние минуты царь-самозванец был накануне умело лишен маржеретовской охраны, да, во многом Шуйский красовался со своей саблей перед толпой, да, выкликнули после его в цари безо всякого ряда — но такой героический случай в его жизни был. И самозванца сверг именно он. И правил он как мог страною — в страшное время Смуты не месяц и не два, и даже не год, а полные четыре года.
Тем временем, вскоре после бесславной гибели «царя Дмитрия Иоанновича», объявился новый самозванец, а потом и третий, и пятый, и даж десятый, хоть никто уже толком не считал. Кого вновь поддерживали ляхи, кого — мятежные южные города, иных — казаки, а других — попросту шайки лесные. После того как труп первого Лжедмитрия спалили, а пеплом из пушки выстрелили в сторону Польши, уж смешно, казалось, верить в сказку о воскресшем царевиче. Впрочем, никто уже особо и не верил — в большинстве своем бунтовщики просто пользовались случаем пограбить.
Война по всей стране да по многим фронтам разом пошла нешуточная. А когда пришел к Москве с большим сборным войском новый ляшский самозванец да сел лагерем неподалеку от Москвы, прогнать его оказалось просто некому. Табор свой самозванец поставил вокруг подмосковного села Тушино, откуда его отряды рыскали по окрестностям в поисках наживы, так что очередного «царевича Дмитрия» острые на язык москвичи тут же окрестили «Тушинским вором». Шуйский занял оборону по линии Земляного города — границе Москвы, сам же засел в Кремле.
Кремль был тогда крепостью наипрочнейшей: стены широчайшие — карета проезжала — не пробить ни одному ядру. Притом внешний облицовочный слой кирпича — из специальной мягкой глины, ядро в нем завязает, оставляет ямку, но не крошит. Бойницы для пушечного и ружейного боя — в два, местами — в три яруса. Особые большие пищали были установлены где в нижнем ярусе — подошвенном бою, а где — прямо на кромке стены меж зубцов. Стреляли они не единой пулей, а целой горстью металлических шариков, буквально снося все живое в ширину до двух аршин. При каждой из таких пищалей находились сразу два стрельца — один за зубцом, не высовывая носа, и заряжал и направлял оружие, второй, стоя за соседним зубцом — сквозь щель — корректировал огонь (потому и щель на кремлевских зубцах — через одну). А каковы-то зубцы эти были! Не то, что игрушечные украшения на итальянских палаццо, откуда их и срисовал Марк Фрязин. Зубцы были прочнейшие — разбить их можно было лишь прямым попаданием большого пушечного ядра, так что стрельцы-пищальники стояли за ними неуязвимы для штурмующих. А ежели начинали со стены палить единовременно еще и пушки — артиллерия Кремля почиталась среди лучших в Европе, — до собственно штурма и дойти не могло: приблизиться к стенам не могла ни одна живая душа.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: