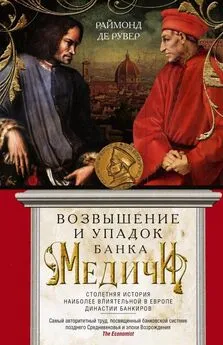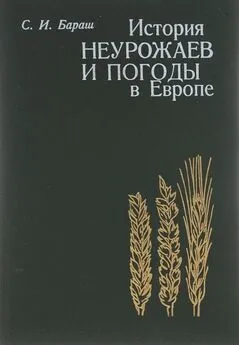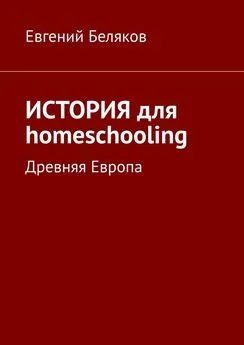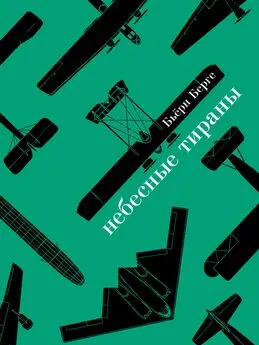Раймон де Рувер - Возвышение и упадок Банка Медичи. Столетняя история наиболее влиятельной в Европе династии банкиров
- Название:Возвышение и упадок Банка Медичи. Столетняя история наиболее влиятельной в Европе династии банкиров
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Центрполиграф ООО
- Год:2019
- Город:Москва
- ISBN:978-5-9524-5386-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Раймон де Рувер - Возвышение и упадок Банка Медичи. Столетняя история наиболее влиятельной в Европе династии банкиров краткое содержание
Возвышение и упадок Банка Медичи. Столетняя история наиболее влиятельной в Европе династии банкиров - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Двумя различными почерками:
Acceptata a di 6 di giugno 1438
Noi Cosimo et Lorenzo de’ Medici e compagni vogliamo che al tempo gli pagate per noi a ‘Douardo Giachinotti et compagni.
На обороте:
Pierantonio et Jacopo Pierozi e compagni in Firenze
Prima
Если не считать передаточного распоряжения, перед нами обычный четырехсторонний вексель с участием: 1) «Франческо Тосинги и Ванни Ручеллаи» из Барселоны (трассант);
2) «Филиппо Борромея и K°.», также из Барселоны (кредитор); 3) Банка Медичи во Флоренции (получатель платежа) и 4) «Пьерантонио и Якопо Пьероци и K°.» из того же города (плательщик). Вексель выпущен в Барселоне 5 мая 1438 г. и принят во Флоренции 6 июня. Передаточное распоряжение написано не на оборотной, а на лицевой стороне векселя и гласит: «Мы, «Козимо и Лоренцо де Медичи и K°.», поручаем вам в срок выплатить за нас «Адоардо Джакинотти и K°.». Сомнительно, чтобы такое поручение представляло эквивалент современной передаточной надписи. Оно безусловно позволяло трассату обоснованно заплатить «Адоардо Джакинотти и K°.», но, очевидно, не передавало права в должном порядке опротестовывать вексель от своего имени или от имени векселедержателя. Использование слов «за нас» в тексте поручения позволяет предположить, что Банк Медичи считал себя принципалом. Такое истолкование получило дальнейшее подтверждение благодаря тому, что представители не опротестовали неоплаченный вексель. Этот шаг был предпринят Камбио ди Антонио де Медичи, фактором Банка Медичи, который, как утверждалось, действовал в этом качестве, и, во-вторых, он, похоже, выступал также фактором «Адоардо Джакинотти и K°.». Таким образом, из текста самого протеста ясно, что новый векселедержатель, компания «Адоардо Джакинотти и K°.», выступал не в своем праве, но только как агент по взысканию просроченного долга.
Кстати, вексель остался неоплаченным и был опротестован, потому что плательщиков, Пьерантонио и Якопо Пьероци, бежавших из города от эпидемии чумы, найти не удалось. Хотя срок платежа по векселю истекал через 60 дней от даты, или 4 июля 1460 г., он был опротестован только 24 июля. Вексельный маклер, Андреа ди сер Бартоломео, по прозвищу Астролаго, как обычно, удостоверил, что 24 июля обменный курс с Барселоной равнялся 15 ш. 3 п. барселонской валюты за флорентийский флорин. Иными словами, существовала разница всего в 6 пунктов между курсом обмена (14 ш. 9 п.) и курсом recambio (15 ш. 3 п.). Это соответствует прибыли в 3,4 % за 4 месяца, или 10,2 % годовых.
Более сложный случай представляет вексель от 18 апреля 1494 г., выпущенный в Риме и подлежащий оплате в Неаполе в пользу миланского купца по имени Бернардино де Карнаго. Получатель платежа сделал передаточное распоряжение и объявил, что желает открыть кредит в банке Торнабуони в Неаполе, дочерней компании отделения банка Медичи в Риме [53] Текст поручения звучит так: «Я, Бернардино де Карнаго, удовлетворен (тем, что получу плату) по указанному переводному векселю в банке Торнабуони».
. Этот вексель послужил поводом для запутанного судебного процесса, который вращался вокруг двух основных пунктов: 1) был ли перевод в банк окончательным платежом и полностью освобождал должника от обязанностей и 2) являются ли филиалы Банка Медичи в Риме и Неаполе одним юридическим лицом или разными юридическими лицами, не несущими ответственности друг за друга. Чтобы еще больше осложнить дело, в марте 1495 г. банк Торнабуони обанкротился, а Неаполь оккупировали французы. После того как они покинули город, судебный процесс возобновился, но так и не был завершен, потому что один из истцов, получатель платежа Бернардино де Карнаго, предпочел бежать с французской армией.
По поводу же вопросов, поднятых судебным процессом, следует сделать два замечания. Во-первых, передаточное поручение, сделанное получателем платежа, явно было разрешением заплатить в банке. В соответствии со средневековым торговым обычаем, перевод или поручение в банке, принятые кредитором, были эквивалентны окончательному расчету. Если банк впоследствии обанкротился, кредитор не имел претензий к должнику. Во-вторых, банк Торнабуони в Неаполе почти целиком принадлежал банку Торнабуони в Риме, который, следовательно, нес ответственность за все обязательства своего отделения. Собственно говоря, неаполитанские суды также пришли к выводу, что два банка Торнабуони суть одно предприятие. Как видно, данный случай не похож на тот, который рассматривался выше, относительно филиалов Банка Медичи в Брюгге и Лондоне.
Несмотря на открытия, сделанные в последние годы, было бы опрометчиво делать скоропалительный вывод о том, что передаточные надписи были распространены в XV в. или переводные векселя были всецело переуступаемыми. Во-первых, векселя с передаточными надписями были исключением, возможно одним на сотню или на тысячу, и так оставалось на протяжении всего XVI в. Лишь в начале XVII в. практика индоссамента распространилась со скоростью лесного пожара. Среди переводных векселей того периода совсем нетрудно найти примеры многочисленных передаточных надписей; иногда их бывало четыре или пять. Юристы не сразу разработали принцип переуступки, и лишь нехотя, под давлением торгового обычая, признали векселедержателя принципалом и наделили его правом требовать от предыдущих векселедателей оплаты опротестованного векселя и признали, что такое право может быть даже лучше, чем право изначального выгодоприобретателя или последующих индоссантов.
В XV в. юридическая наука не достигла такой стадии утонченности: статус векселедержателя был еще не определен по закону. В лучшем случае его считали агентом предъявителя векселя (получателя платежа, получателя денег по переводному векселю), названного в тексте. Однако в средневековой практике получатель платежа имел право подавать иск только на трассата, но не на трассанта. Право подавать иск на трассанта неоплаченного векселя принадлежало кредитору, который принимал меры предосторожности, предоставляя стоимость, которая образовывала основу договора cambium.
Что касается ссуд, предоставляемых монархам и правителям, крайне трудно делать какие-то обобщения, поскольку условия менялись от договора к договору, в зависимости от обстоятельств и типа обеспечения, которое мог предоставить заемщик. Давая деньги в долг правителям, банкиры не ограничивались общепринятой практикой и обычаями денежного рынка, которые регулировали обменные операции. Как правило, займы правителям предоставлялись либо под залог драгоценностей из казны, либо других ценностей. Однако чаще обеспечением выступали налоговые поступления, прибыль от которых переходила заимодавцу, если ему не предоставляли право собирать налоги самому. Таким образом, ссуды правителям часто подразумевали откуп налогов в той или иной форме. Процентный доход редко оговаривался открыто, но обычно назывался различными эвфемизмами и более или менее успешно скрывался с помощью ряда уловок, которые часто приводили к трудностям и разногласиям, когда дело доходило до оплаты счетов. Одной излюбленной уловкой было предложить заемщику товары по завышенной цене. Еще одна уловка – назначить избыточную плату за комиссию или другие услуги. Часто такие платы позже отвергались ревизорами или контролерами, назначенными для того, чтобы внимательно изучить счета кредитора. Подобная практика способствовала оправданию или фабрикации обвинений в присвоении денег незаконным путем. Такая история была знакома многим финансистам, от Фрескобальди в XIV в. до Жака Кера во времена Медичи.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: