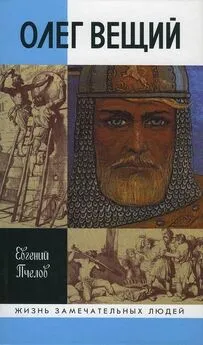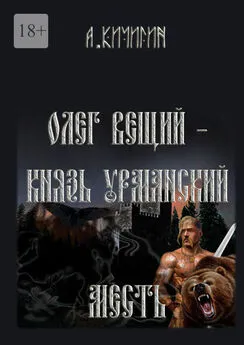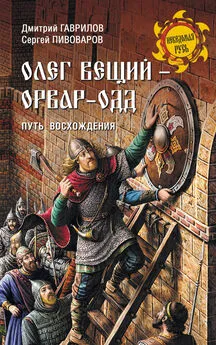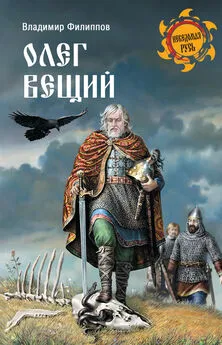Дмитрий Гаврилов - Олег Вещий – Орвар-Одд. Путь восхождения [litres]
- Название:Олег Вещий – Орвар-Одд. Путь восхождения [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент Вече
- Год:2018
- Город:Москва
- ISBN:978-5-4484-8664-7
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Дмитрий Гаврилов - Олег Вещий – Орвар-Одд. Путь восхождения [litres] краткое содержание
Олег Вещий – Орвар-Одд. Путь восхождения [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
Комментаторы русского перевода документа обычно указывают, что «евр. Х-л-гу передает скандинавскую форму имени Олег, это провоцирует многих авторов (А.П. Новосельцев, К. Цукерман и др.) на анахронические отождествление этого “царя Русии” с Вещим Олегом начальной летописи (тот умер до воцарения Романа I Лакапина). Евр. мелех – “царь” – обозначение в письме правителя (правителей) у разных народов не может определенно означать киевского князя (на Руси правил не “царь”, а княжеский род, к которому принадлежал некий князь по имени Олег/ Х-л-гу)».
Наверное, это так, но Олег Второй, как мы увидим далее, в конце концов заменил на киевском престоле предшественника.
3. Аскольд, Херрауд и Одд/Олег
Кто убил князя Аскольда
Летописный Аскольд не может быть тождествен Херрауду саги, поскольку смерть его насильственна (пусть и приписана варягам Олега), а Херрауд саги умер сам.
С. Пивоваров предположил, что Аскольд был убит венграми во время их нападения на Киев в конце IX века и по этой причине оказался похоронен на месте их бывшего лагеря. Отсюда и топоним «Аскольдова могила» (Угорское урочище на правом берегу):
«Идоша угры мимо Киева, горою еже ся зовёт ныне Угорское, и пришедше к Днепру, сташа вежами».
Хотя киевский летописец относит этот проход угров к 898 году, дата явно не соответствует исторической действительности. Равно как и нападение на Киев следует отнести к куда более ранним временам, хотя бы к тому же 882 году.
Знал ли составитель Начального летописного свода, что Аскольд принял христианство? Если учесть смутные свидетельства ряда поздних летописцев, он, вероятно, был в курсе этого обстоятельства.
Поскольку Олег носит языческое прозвище Вещий и из его смерти летописцем извлечена мораль для последующих поколений, вполне уместно – из тех же идеологических соображений – уготовить мученическую смерть варягу-христианину Аскольду по приказу того же варяга-язычника Олега, но вовсе не иноплеменников-угров. Так никогда не видевшие друг друга Аскольд и Олег оказались на одной летописной странице «на кончике пера».
Аскольд, если и был крещён с кучкой приближённых, составил бы конкуренцию и княгине Ольге (Елене) и князю Владимиру (Василию). Он не вписывался в последующие доктрины редакторов начальной русской истории, и о его возможном крещении в дошедших до нас основных списках Начальной летописи остались лишь намёки. Так одни редакторы летописи перемудрили других.
Между тем венгры ещё в 895–896 годах воевали с болгарами на Нижнем Дунае и Южном Буге. Как раз в 896 году разбитые венгры под ударами болгар и печенегов бежали в Паннонию. Стало быть, в летописном 898 году они никак не могли подходить к Киеву.
882 год как год гибели Аскольда назван в летописи. Не видим оснований от него отказываться.
Венгров же в то время возглавлял Альмош, окончивший свои дни после разгрома от Симеона Великого после сорока лет правления около 895 года.
Упоминаемый в летописи «Ольмин двор» на месте гибели Аскольда вполне может быть связан с его именем.
Возможно, уточним мы, Аскольд был просто убит венграми в его собственной загородной резиденции, где затем и сел венгерский наместник или временный правитель.
«Урочище Угорское имеет особое значение и для истории Киева: позднейшие летописные своды (Ипатьевская летопись под 1146 годом и др.) упоминают там “княжий двор” – на этом дворе “все кияне” в 1146 году “льстиво” целовали крест неугодному им князю Игорю Ольговичу, которого затем предали; призвали другого князя – потомка Мономаха – и, расправившись с Игоревой дружиной, убили. А в 1151 г. в Киеве вообще было два князя, вытеснившие из города самого Юрия Долгорукого: брат Юрия Вячеслав – в самом городе, а их племянник Изяслав Мстиславич – под Угорским.
Эти известия, конечно, никак не могли повлиять на начальное русское летописание, но они позволяют предположить, что Угорское и в древности могло иметь функции экстерриториальной резиденции князя, вроде известного из начального летописания княжеского “двора теремного”, расположенного “вне града”.Экстерриториальная резиденция нужна была тогда, когда в самом городе сильны были вечевые традиции. Так было в Новгороде, где экстерриториальная резиденция существовала на Городище, так было и в определенные кризисные моменты истории Киева» (Петрухин, 1995, с. 134).
Ольмин (как вариант – Альмин) двор, что находился в том же Угорском урочище, подразумевает постоянное огороженное строение (хотя бы и сделанное из дерева). Угры на тот момент были кочевниками и едва ли обладали умением строить терема, так что Альмош попросту приказал убить Аскольда в его же княжьем доме (как вариант), а потом расположился там и, возможно, на продолжительный срок. Отсюда и пошло название места. Прочие угры разбили вокруг свои шатры.
Анонимная «Gesta Hungarorum» в главе седьмой называет 884 год датой выхода венгров Альмоша к несуществующему тогда Суздалю. Немецкий хронист Регино, труд которого был известен Анониму, указывает на 889 год как на дату выхода венгров «из Скифии» (по контексту «Gesta Hungarorum» – Поволжье).
Мифологичность и несообразность хронологии, выстраивание древнерусским летописцем истории под конкретные идеологические задачи отмечает, например, тот же В.Я. Петрухин:
«Урочище Угорское также задействовано в рассказе о походе угров под 898 годом – как и прочие топографические приметы летописи, оно должно свидетельствовать о достоверности описываемых событий. Угры шли мимо Киева, останавливаясь на Угорском (см. рис 21, цв. вкл), прошли через Угорские горы – Карпаты и “почаша воевати живущая ту волохи и словени”. Они “прогнаша волъхи, и наследиша землю ту”. Ясно, что под волохами летопись – и предшествующая кирилло-мефодиевская традиция – подразумевает франков, утвердившихся на Дунае при Карле Великом (Шахматов, 1940. С. 84; Петрухин, 2000. С. 64 и сл. – В.П. ). Важнее последующий маршрут венгров, которые начали войну с греками, дойдя до Селуня – города Константина и Мефодия – в Македонии, а затем обратившись против моравы и чехов.
Этот этногеографический контекст и позволяет летописцу естественным образом возвратиться к “Сказанию о преложении книг”. “Сказание” оказывается здесь не некоей хронологической вехой, а историческим комментарием к распространению славянской грамоты. “Бѣ единъ языкъ словенескъ, – продолжает цитировать “Сказание” летописец: – Словѣни, иже сѣдяху по Дунаеви, их же прияша угри, и морава, и чеси, и ляхове, и поляне, яже нынѣ зовомая Русь”. Последние слова – ремарка летописца, ибо он отождествил польских (ляшских) полян “Сказания” с полянами киевскими, которых в его изложении уже подчинил Олег со своими “варягами, словенами и прочими, прозвавшимися русью” и которые в его эпоху зовутся Русью. Создав эту историческую конструкцию(выделено нами. – Авт .), летописец уже может утверждать: “Симъ бо первое были преложены книги моравѣ, яже прозвася грамота словѣньская, яже грамота есть в Руси и в болгарѣх дунайскихъ”» (Петрухин, 2014, с. 215).
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Дмитрий Гаврилов - Олег Вещий – Орвар-Одд. Путь восхождения [litres]](/books/1146105/dmitrij-gavrilov-oleg-vechij-orvar.webp)