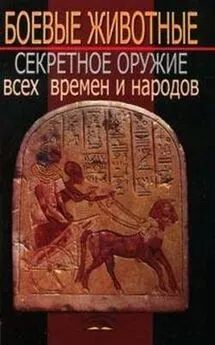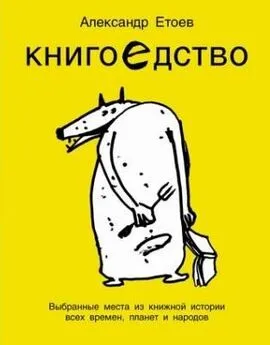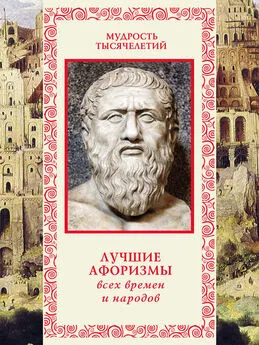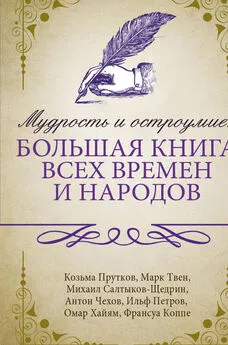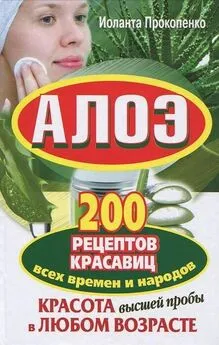Евгений Жаринов - История всех времен и народов через литературу [litres]
- Название:История всех времен и народов через литературу [litres]
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:Литагент АСТ
- Год:2021
- Город:М.
- ISBN:9978-5-17-138709-9
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Евгений Жаринов - История всех времен и народов через литературу [litres] краткое содержание
В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.
История всех времен и народов через литературу [litres] - читать онлайн бесплатно ознакомительный отрывок
Интервал:
Закладка:
В одном из писем, касающихся чеховского рассказа, Л.Н. Толстой, как особую художественную удачу, отмечал перепутанные в этой телеграмме слова и буквы: вместо похороны – «хохороны» и добавлено к тому же какое-то нелепое словечко «сючала». Перед нами вроде бы самый обычный жизненный факт: наш российский телеграф всегда отличался своеобразным черным юмором, сюда же, наверное, наложилось и обычное пристрастие российских актеров к выпивке, ведь послал известие режиссер опереточной труппы, но в то же время в общем зловещем контексте опечатки телеграфиста словно бьют по нервам, передают сильное душевное напряжение все той же Душечки, когда она один на один без свидетелей, без вездесущих соседей оказалась перед лицом горя. Здесь нет места причитаниям, здесь есть только трагическое ощущение всей нелепости бытия и неисчерпаемая скорбь по мужу, когда даже весть о человеческой смерти, пройдя по телеграфным проводам через пальцы и уста равнодушных, пошлых людей, превратилась в какой-то нелепый дьявольский лепет в виде: «хохороны» и «сючала».
Весь чеховский рассказ завершается подобной же сценой. Так, Оленька Племянникова почти каждую ночь просыпается от любого стука: вдруг опять телеграмма, как тогда с Кукиным, но только на этот раз у нее заберут самое дорогое, самое родное – ее Сашеньку: «Это телеграмма из Харькова, – думает она, начиная дрожать всем телом. – Мать требует Сашу к себе в Харьков… О, господи!»
Она в отчаянии; у нее холодеет голова, руки, и кажется, что несчастнее ее нет человека во всем свете».
Почему же именно мальчик Саша занимает в жизни чеховской героини такое исключительное место? Самый подходящий ответ, пожалуй, заключается в чувстве материнства, которое, как у всякой истинной женщины, распространялось Душечкой на всех ее предшествующих мужчин. Вспомним хотя бы, как трогательно ухаживала Оленька за Кукиным. Однако, если учесть общий культурологический контекст рассказа и особенно раздумья самого автора о природе духовности в человеке, то тогда логика развития чеховской мысли может быть выстроена следующим образом: перед нами в сюжетной форме воплощается история преодоления духовным началом, заложенным в обычной провинциалке Оленьке Племянниковой, всего материально-пошлого сопротивления обычной жизни.
Так, Душечка поначалу руководствуется исключительно супружескими, семейными интересами. Еще в браке с Кукиным и Пустоваловым она живет только интересами семьи и мужей, причем семья эта понимается как нечто весьма узкое, ограниченное и даже пошлое. И в этом пошлом виде как раз семейная жизнь и не удается Оленьке. Каждый раз все кончается очередной смертью. В случае же с ветеринаром речь уже идет о гражданском браке, что само по себе вступает в противоречие с обывательскими представлениями о супружеской жизни. И в соответствии с этим у Душечки неожиданно расширяется само понятие родственности: сюда теперь входят и жена ветеринара, т. е. возможная соперница (основа сюжета всех пошлых драм), и все дальние родичи из Харькова, а самое главное, мальчик Саша, которого Душечка начинает воспринимать как своеобразный венец всей своей жизни, посвященной любви. Получается так, что галерею мужей героини завершает образ невинного младенца, а мечта о браке превращается в род весьма необычного, с точки зрения обывательской морали, материнства. Семейные и супружеские отношения заменяются платоническими, как сама Пресвятая Дева Мария, Душечка получила ребенка, не зачав его. Для Душечки теперь все заключено в этом мальчике. И кажется, что все ее предшествующие мужчины были только своеобразным подступом к этой высшей форме любви. Чеховская героиня отныне готова беззаветно любить и древнюю историю, и всю другую гимназическую премудрость, она даже готова отдать последнее свое материальное прибежище в этом мире, то есть собственный дом, лишь бы навсегда оставить с собой Сашу.
О связи творчества Г. Флобера и А. Чехова уже немало писали в отечественном литературоведении. Прежде всего отмечалась внутренняя близость тематик двух авторов – это проблема очерствления человеческой души в условиях мещанского пошлого быта. Так, мы знаем, что проблему мещанства Чехов рассматривал не на уровне отдельных частных недостатков личности, а как явление всеобщее, универсальное. Но нечто подобное высказывал в свое время и Флобер. Французский писатель открыто заявлял, что «буржуа – это теперь все человечество, включая народ». Буржуа – слово французское (bourgeois), и обозначает оно – бюргер, горожанин в странах Европы в средние века, то, что в русском языке мы определяем как обыватель, мещанин. Правда, в основном при сопоставлении творчества русского и французского писателей у Флобера брали для подобного анализа только «Мадам Бовари», где исследователями безошибочно угадывалась близость двух художников слова в трактовке женского образа, когда окончательно срывался восторженно-романтический флер, столь типичный в рассказах о женской судьбе в творчестве предшественников.
Еще одним важным моментом при сравнительно-историческом анализе было внимание исследователей на близость писательской манеры, которая обнаруживалась у Чехова и Флобера. Эту близость определяли как постоянное использование ими несобственно-прямой речи, которая прежде всего выражалась в особой форме лаконизма, способного вместить в короткой фразе огромное смысловое пространство.
На наш взгляд, рассказ «Душечка» по общему замыслу в большей мере близок повести «Простое сердце», чем роману «Мадам Бовари». И Чехов, и Флобер были в разное время увлечены очень схожими философско-духовными поисками природы духовного и материального, неизбежного конфликта этих двух начал в обыденной жизни. И в этом смысле вполне допустимо рассматривать произведение Флобера как еще один аспект культурологического контекста чеховского рассказа. Можно даже говорить о некой скрытой полемике Чехова со своим предшественником по вопросам происхождения духовности и веры. Чтобы доказать это, обратимся к следующим фактам. Рассказ «Душечка» был впервые напечатан в журнале «Семья» в номерах 1 и 3 за 1899 г. Сам же замысел возник намного раньше. В записной книжке писателя еще в 1895 г. сделана заметка, представляющая собой первоначальный набросок сюжета «Душечки». Повесть же Флобера была включена в сборник «Три повести» еще в 1877 г., причем две из них – «Иродиада» и «Легенда о святом Юлиане Странноприимце» – перевел в этом же году И.С. Тургенев. «Простое сердце» Тургеневу не понравилось, и он не стал переводить это произведение. Только в 1892 г. повесть появилась на русском языке, то есть за три года до возникновения замысла чеховской «Душечки» и за семь лет до первой публикации. Даже если Чехов и не читал повести Флобера, мы вполне можем говорить в данном случае о явлении, которое С. Аверинцев предложил понимать как дивергенция. Близость общих проблем эпохи и сходный менталитет художников конца XIX – начала XX в. повлияли на то, что два на первый взгляд столь различных произведения вызывают у вдумчивого читателя ощущение глубинной внутренней схожести.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
![Обложка книги Евгений Жаринов - История всех времен и народов через литературу [litres]](/books/1147543/evgenij-zharinov-istoriya-vseh-vremen-i-narodov-chere.webp)